 |
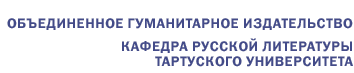 |
|
АННА ЮНГГРЕН В статье «Вопрос о Тютчеве» (1923) Тынянов по ходу рассуждений о жанровых особенностях тютчевской лирики бросил вскользь одно замечание:
Фрагментарность стала основой для совершенно невозможных ранее стилистических и конструктивных явлений <...> Эта фрагментарность сказывается и в том, что стихотворения Тютчева как бы «написаны на случай». Фрагмент узаконяет как бы вне-литературные моменты; «отрывок», «записка» - литературно не признаны, но зато и свободны. (Небрежность Тютчева литературна) 1. Говоря об узаконении фрагментарности, Тынянов в первую очередь называет «смежные» письменные жанры - отрывок и записку. В связи с этим замечанием Тынянова напрашивается вопрос о том, не следует ли искать материал для сравнения и в «смежных рядах», относящихся к области устной речи. Это брошенное мимоходом замечание, периферийное в сюжете самой статьи, в первую очередь стремящейся связать творчество Тютчева с поэзией Державина и Раича, подводит к обширной и еще не вполне структурированной в виде отдельных вопросов сфере исследований, которую можно обозначить как проблему устной речи как одного из формирующих начал поэтики Тютчева. Сам Тынянов понимал «устное» у Тютчева узко и сводил его к «тютчевиане», в которой видел комический жанр афоризма или «старинного анекдота»:
«Тютчевиана» - любопытное явление, подчеркивающее сверхличность, невольность искусства <...> Рядом с высоким литературным творчеством у Тютчева сосуществовало комическое устное, не нашедшее себе литературного выражения; комический стиль Тютчева восходит к французскому каламбуру и старинному анекдоту, причем в последнем случае <...> главную роль играет не словесное выражение, а мимика и жест2. Однако устное начало - это не только сами тексты-шутки (анекдоты и афоризмы, закрепленные в передаче), но и модус их существования: иным, отличным от письменного кажется способ бытования и, возможно, порождения устных текстов. Важнейшим видом порождения устного текста можно считать импровизацию. Литература романтизма широко имитирует устные жанры, как анекдот, так и импровизацию (ср. «Египетские ночи» Пушкина). Кроме того, для политического дискурса Тютчева, в первую очередь в прозе, значима, по-видимому, риторика такого устного жанра, как католическая проповедь. Ю.М. Лотман в статье «К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи» говорит об экспансии письменной речи в устную; устная речь поднимается до ранга письменной в «исторические» моменты, у декабристов. Такое устное слово - замаскированное письменное, т.е. произносится то, что зачастую сочинено в голове или на бумаге3. Однако наряду с экспансией письменной речи в устную поднимается и статус устной речи; беседа оказывается видом культивируемого словесного творчества, перемещается, по выражению Лотмана, «с периферии культуры в ее центр»4. Можно было бы сказать, что граница между устными и письменными жанрами становится проницаемой: беседа, анекдот, импровизация делаются предметом литературного изображения. Одновременно речь теряет свою спонтанность, устное слово утрачивает отчасти свою неповторимую разовость. В ней вырисовываются и закрепляются поджанры: афоризм, анекдот, очерк характера. Bons mots передаются, иногда записываются и имеют достаточно устойчивую социальную траекторию. Последние отголоски этой культуры - ахматовские истории, которые она называла своими «пластиночками». Презумпция уникальности речевого общения здесь снята и обыграна. Изучение устной речи наталкивается на большие трудности, в первую очередь, из-за недокументированности устного общения, которое в совокупности своих перетекающих друг в друга зыбких речевых форм и жанров складывается в речевую культуру русских, французских, немецких салонов XIX в. Нельзя, конечно, восстановить содержание всей сложной сети диалогов; у нас есть только отдельные реплики, записанные мемуаристами, на основе которых можно пытаться реконструировать отдельные узлы контекста. При этом особенно важно попытаться извлечь «лингвистические», в широком смысле слова, выводы из речевой ситуации эпохи салонов, в частности, применительно к поэтике Тютчева. Повторы, дублеты и вообще компактность образной системы Тютчева, знаменитое небрежное отношение Тютчева к своим текстам, обычно представляемые как сугубо индивидуальные черты Тютчева, выросли на почве артистического речевого мышления салонной культуры. Образцы устных жанров салонной культуры (логогрифы, шарады, афоризмы, анекдоты, очерки характера) дает «Старая записная книжка» П.А. Вяземского. Показательно, что П.А. Вяземский придает значение этим «памятникам» и сознательно стремится закрепить в «Старой записной книжке» живое общение:
Все это отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей: дроби жизни мы откидываем; но надобно и их принимать в расчет5. Салонная речь легко театрализуется6. Французская салонная культура вбирает в себя и элементы театрального искусства и куртуазной традиции7. Моменту речевого «исполнения» предшествует подготовка - разрешение рассказа, пуант аналогичен театральному эффекту8. Так, Вяземский замечает по поводу рассказчика и драматурга Веревкина:
Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в Парижских гостиных по приготовленным темам9. Тютчев, по мнению современников, был одним из таких говорунов старого толка. Приведем анонимную «Выдержку из частного письма», опубликованную в «Русском архиве» по поводу кончины Тютчева:
Его разговор блистал остроумием не из желания ослеплять; нет, беседа давала ему случай выражать то, что он перечувствовал. Двух слов ему было довольно, чтобы определить, осмыслить значение факта. Для иного слушателя фраза казалась заранее приготовленною, а в действительности приготовленною или вернее продуманною была лишь мысль, на воплощение которой слова являлись сами. И в этих словах (mots), которые во множестве переживут своего автора, никогда не владычествовала ненависть или злоба; нет, шутка с примесью жалости, вот все, чем разил Тютчев то, чего он не уважал <...> зато с каким жаром вступался он за все то, что имело право войти во святая святых, и как в этом жаре не было ничего напускного, фальшивого; как все это говорилось с тем неподдельным тоном утонченного, благовоспитанного человека, в тех полушутливых, снисходительных, беспредельно вежливых оборотах речи, которые сроднее представителям 18-го века, чем надменным современникам нашего металлического прогресса10.
В связи с остроумием, особенно политическим остроумием Тютчева, особенно важно имя Шамфора, упомянутое Вяземским. Шамфор был создателем комедий и автором книги «Maximes et pens Поездки Тютчева в Париж 1827 и 1828 гг.12 были не столько формирующими для Тютчева, сколько завершили, отшлифовали его европейское образование (о мнении Карла Пфеффеля по этому поводу см. ниже прим. 41). Старомодность тютчевского остроумия - указание на то, что этот стиль беседы был, скорее всего, вывезен из России. В Париже Тютчев мог быть принят, в том числе и в русских салонах, в которых, по мнению Вяземского, сохранилась старое искусство держать салон:
Это умение или искусство (держать салон) переходит в предание. Замечательно, что последними представительницами этого искусства в Европе едва ли по преимуществу не были русские дамы: княгиня Ливен, княгиня Багратион, Свечина. Салон первой был политический, многие Европейские вопросы, сделки, преобразования, сближения дипломатических личностей тут наметывались на живую нитку разговора с тем, чтобы позднее обратиться в плотную ткань события... Самый ранний стилистический пласт речевой культуры, вывезенный из России, до мюнхенской службы и парижских поездок Тютчева, представлял собой распространенное в Европе явление анахронической «салонности», о котором пишет М-м де Сталь, в той главе книги «О Германии», в которой говорится «об иностранцах, которые хотят подражать французскому духу»: ...un Устная культура Тютчева - синтетическое явление, соединяющее в себе русское и «французское» остроумие, современный Тютчеву французский религиозно-политический дискурс, близкий по жанру к проповеди, а также его немецкое общение, включающее в себя в качестве одной из составных частей беседы с Шеллингом. В настоящее время совершенно не изучен вопрос о Тютчеве и салонах немецкого романтизма. Внимание исследователей в основном было сосредоточено на жизни берлинских салонов, в первую очередь, на салоне Рахели, жены Варнгагена фон Энзе15, в то время как культурная жизнь Мюнхена рассматривается, как правило, под другим углом зрения - как «Kulturproekt» Людвига I по превращению Мюнхена в новые Афины. Конечно, жизнь Тютчева в Германии не ограничивалась Мюнхеном. С Варнгагеном фон Энзе, личное знакомство с которым произошло только в 1842 г.16, Тютчев был связан косвенно как через друга Варнгагена Гейне17 (Варнгагену, в частности, посвящена одна из глав поэмы «Атта Тролль»), так и через своего шурина, писателя и дипломата Аполлониуса фон Мальтица, служившего под началом Варнгагена в Штуттгарте до своего переезда в Берлин в 1821 г.18 Салон Варнгагена фон Энзе в Берлине может считаться одним из центров формирования романтического мировосприятия, к числу друзей Варнгагена относились Брентано, Фридрих Шлегель, Шлейермахер и многие другие. М-м де Сталь в уже цитировавшейся книге «О Германии» говорит о свободном, неиерархическом духе жизни берлинского образованного общества:
Cette ville [Berlin], Берлинское искусство собирать талантливых людей независимо от их ранга заслуживает похвалу мадам де Сталь. Правда, она замечает, что, в отличие от Франции, в Берлине женское общество «не амальгамировано» с мужским, что наносит вред беседе. Показательно, что сравнению немецкой и французской беседы посвящена отдельная глава книги «О Германии». Отличительная черта немецкого разговора - метафизичность при отсутствии блеска, направленность на абстрактный предмет, а не на собеседника:
L'on enteds rarement parmi les Allemands ce qu'on appelle des bons mots: ce sont les pens
Салон в Германии - не просто форма и способ культурной жизни, он также становится предметом философского рассуждения. Ценности романтического салона, прототипом которого мог быть именно салон Варнгагена, в концептуальной форме выражены в работе Шлейермахера «Попытка теории поведения в обществе» («Versuch einer Teorie des geselligen Betragens» - 1799). Главная цель салонной «деятельности» (T То, что было нормой поведения в Берлине, применимо, вероятно, хотя бы отчасти и к Мюнхену. На этом фоне становятся понятными замечание Элеоноры Федоровны Тютчевой о «прекрасном равенстве», царящем в кругу общения Тютчевых, равно как и ее опасения в связи с приездом кн. Гр. Гагарина, назначенного на пост посла в Мюнхене:
Гагарин здесь всего три дня и судить о его характере пока невозможно, но в самом деле, есть в его обхождении что-то сухое и холодное, что ранит вдвойне, при том положении, в котором мы по отношению к нему находимся; словом чувствуется в нем петербуржец, и этим все сказано <...> Но возможно и то, что опасения мои преувеличены и все сгладится само собою Мы не можем пожаловаться на недостаток учтивости. Гагарин нанес мне визит, затем, на следующий день провел у меня вечер, хотя я и не слишком настойчиво его приглашала; и все же есть в нем нечто такое, что замораживает атмосферу. Особого внимания заслуживает та языковая среда, в которой Тютчев находился более 20 лет в Мюнхене. В общении Тютчевых преобладал французский язык, это был язык домашнего общения Тютчевых в Германии, и одновременно язык дипломатического общества. Петр Киреевский, слушавший зимой 1829-1830 г. лекции в Мюнхенском университете и регулярно бывавший у Тютчевых, в письме родителям сетует на свое плохое знание французского языка.
У Тютчева, как я уже писал к вам, я бываю два раза в неделю и люблю его и все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту. Они принимают меня и со мной обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя; но я часто прихожу в истинное отчаяние с хромотою своего французского языка, заиканьем и особенно совершенным неуменьем говорить, независимо от одних первых качеств, или, лучше сказать, недостатков21. Немецкое дворянство, как и русское, владело французским языком, баварские альбомы того времени обычно содержат записи и по-французски, и по-немецки22. В отличие от дипломатической среды, языком гелертерского общения был немецкий. Письма Петра Киреевского передают по-немецки реплики филолога-эллиниста Тирша, бывшего ректором Мюнхенского университета в 1829, во время пребывания Киреевского в Мюнхене23. На чай, т.е. на jour fixe у Шеллинга по пятницам приглашались не только коллеги-профессора, но и студенты. Разговор, судя по свидетельству Киреевского, велся, по-видимому, также по-немецки и касался новостей науки24. Кроме того, латынь все еще была жива в университетской среде: Шеллинг спрашивает П. Киреевского, можно ли было бы читать курс философии в Москве по-латыни, и получает утвердительный ответ, но также и уверения, что в Москве многие знают немецкий язык25. Наконец, в Мюнхене Тютчевы посещали православную греческую церковь, где богослужение велось по-гречески, а не на церковно-славянском языке26. Для Тютчева немецкий язык не мог не быть отчасти языком общения, хотя бы с представителями необразованных классов. Русские стихи Тютчева мюнхенской эпохи следует рассматривать на этом франко-германоязычном фоне, хотя трудно точно определить, какая доля устного общения приходилась у Тютчева на немецкий язык. Основная функция русской речи у Тютчева в течение более чем двадцатилетнего мюнхенского периода - быть языком поэзии. В этом отличие языковой ситуации Тютчева от конвенционального билингвизма его сверстников. Уже этим обстоятельством предопределяется их «островное» положение в окружающей культуре и их языковая интенсивность. Показательно, что «архаические» двусоставные прилагательные уходят из поэтического словаря Тютчева после возвращения в Россию, и уже для стихов 50-х годов нехарактерны. Можно поэтому предположить, что архаические черты тютчевской поэзии не столько имманентное свойство его поэтики, сколько результат консервации его юношеской поэзии в иноязычной среде. Возвращение в Россию меняет лингвистическое «соотношение сил» и означает возврат к конвенциональному билингвизму. Выбор языка отмечает границу между стихом и прозой. Русские стихи контрастно выступают по отношению к обтекающей, омывающей их французской речи, эпистолярной или устной. Так, стихи Тютчева «Неман», «Лето 1854», «В разлуке есть высокое значенье…», «Памяти В. А. Жуковского», «Памяти Е. П. Ковалевского», пейзажное из Овстуга «В небе тают облака…» приложены к письмам к Эрнестине Федоровне (переписка велась только по-французски). Стихи Тютчева вписаны в обрамление эпистолярного диалога с собеседницей; на них переносится от письма заряд «разовости», уникальности реплик, что и придает им оттенок стихов «на случай». Стихотворение открывается в речевой контекст, привязано к нему, как в случае стихотворения «Неман», комментарием и подчинено - в виде любезной шутки - общему тону обращения к собеседнице:
Puisque tu t'occupes encore du russe, voici de quoi exercer ton savoir faire. Ce sont les vers dont je t'ai parl Вернемся теперь к вопросу о соответствиях между устной речью и стихами. Секрет «виртуозной» речи - в том, что наготове образный и отчасти словесный инструментарий, в соединении уникальности «исполнения» с готовностью разыграть заготовленные образные ходы или излюбленные смысловые формулы. Можно видеть связь между устным порождением текста и повторами как отличительной чертой тютчевской поэзии. Об этой особенности у Тютчева писал в своей известной работе Л. В. Пумпянский, и позднее - В. Н. Топоров28. Так, Пумпянский отмечает:
Почти все лучшие стихи свои Тютчев повторил с различными изменениями, в иной, так сказать редакции, по крайней мере два раза, а весьма часто и больше29 - и приводит разнообразные примеры. Ниже цитируются некоторые из них:
На небе чистом и высоком... («Нет, моего к тебе пристрастья...») Или примеры, как Пумпянский говорит, «темы жизни, давящей как гробовой камень»:
И, как под камнем гробовым, / Нам станет тяжело... На основании этих и других примеров Пумпянский делает вывод о том, что метод Тютчева - метод интенсивной разработки минимума тем. Само слово «тема» кажется, однако, здесь неудачным. Можно было бы сказать, что у Тютчева есть много стихотворений на тему моря - это ничего не говорит об их смысловом построении. Фактически под темой Пумпянский подразумевает сравнение или устойчивое ассоциативное метонимическое сближение - как розы и смерть («Mal'aria», «Сижу задумчив и один…»). На основании повторов делается вывод о «циклизации». Оставляя в стороне занимающий особое место в творчестве Тютчева денисьевский цикл, стихи которого объединены общностью как темы, так и биографической подоплеки, а не повторами, этот вывод Пумпянского должен быть оспорен, так как при этом неверно толкуется функция повтора. Повторы не ограничиваются у Тютчева поэзией и не носят характера связывания отдельных стихов в сверхъединство. Они захватывают и область прозы - письма или статьи. Язык при этом меняется на французский. Вот, например, в письме Кольбу - о противниках Кюстина: Quant aux adversaires de M. de Custine, aux soi-disant d Здесь в комическом ключе появляется та же фигура (недосягаемая вершина Монблана), что и в стихах:
А там, в торжественном покое, Или:
Гор Другой пример из статьи «Россия и революция»:
Ces deux puissances sont maintenant en pr Антитеза вступления аналогична другим текстам, построенным на антитезно-близнечном принципе:
Две силы чудно в нем слились... По-видимому, следует говорить об устойчивых сближениях и смысловых и риторических фигурах, а не о циклизации. Иное объяснение повторов у Тютчева - в статье В. Н. Топорова. Топоров избегает говорить о заимствовании у немецких романтиков или цитировании. Общее объяснение повторов в причастности Тютчева образно-философскому коду немецкого романтизма. По поводу повторений Топоров пишет:
Подобные пары «повторяющихся» стихов, разумеется, не могут быть объяснены ни небрежностью или недостаточной селективностью, ни заданием написания «диптихов» или «двойчаток», сходных с мандельштамовскими. Можно думать, что такие пары могут трактоваться в свете некоторых идей шеллингианства32 - и проводит здесь параллель с понятием отзвука - Klang - в смысле «отзвука бесконечного в конечном». Кажется естественной приобщенность Тютчева образной системе романтизма, уже сложившейся и в 20-е годы находившейся в стадии клиширования и вульгаризации. Вопрос о том, насколько философия «отзвука» определяет поэтику Тютчева и объясняет тютчевские повторы, нуждается в дополнительных сопоставлениях в широком контексте романтизма. Можно было бы сформулировать вопрос так: считать ли повторы выражением романтического мировосприятия и связать их с «говорением» на общем языке романтизма или следует видеть в них проявление устной литературности, для которой характерно оперирование заготовленными «смысловыми блоками»? В пользу второго объяснения говорит то, что отношение Тютчева к текстам своих стихов кажется отношением не столько к «стихам» как текстам, получившим благодаря закрепленности в письме вневременную устойчивость, сколько отношением к речевым актам. Возможно, в знаменитом небрежном отношении Тютчева к своим стихам сказывается культ импровизации. Импровизация согласуется с эстетикой отголоска «бесконечного в конечном», выражаемой в романтизме часто также и через фрагмент. Импровизация означает проявление «большого» языка в «маленьком» «исполнителе». Так, Новалис в коротком эссе под названием «Монолог» говорит об автономности языка говорящего. Поэт - человек, которым владеет свободная стихия языка, его речь Новалис уподобляет пророческой:
Gerade das Eigent Литературный текст может имитировать жанр импровизации. Пушкинские «Египетские ночи» говорят об импровизации как о высшем роде искусства. Импровизация сакральна, это высший род поэзии, ей сопутствует мотив судьбы и жребия: - Импровизатор! - вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. - Зачем же Вы прежде не сказали, что вы импровизатор? - и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния34. Культ импровизации поднимает престиж устной речи, ставит ее наравне с музыкой. Как музыка, так и словесная импровизация предполагают говорение, исполнение hic et nunc. Не случайно у Тютчева, как и у Гейне, появляются в стихах ссылки на акт говорения в виде глаголов речи, в прямом и переносном значении (ср. у Тютчева «ты скажешь», «ты молвишь» в функции сравнения, вместо «будто» («Ты скажешь: ветреная Геба...» («Весенняя гроза»), «Ты скажешь: ангельская лира...» - «Проблеск»). Ср. употребление песенного или риторического обращения у Гейне:
Morgens stehe ich auf und frage: / Kommt deins Liebchen heut Вообще внутритекстовые признаки устности, которые выделяет и Бухштаб36, следует, видимо, интерпретировать не как подлинную устность, а скорее как стилизацию, связанную с ориентацией романтического стиля на импровизационное говорение или диалог. Между импровизацией и повторяемостью, подготовленностью «предречи» противоречия нет. Наоборот, одно подкрепляет и предполагает другое, и салонные речевые навыки, т.е. виртуозное владение устным жанром, воплощаются именно в импровизации. Импровизационное начало высоко ценится как в проповеди, так и в публичной лекции. Эти оба вида ораторского искусства в эпоху романтизма граничат и легко переходят друг в друга. А. И. Тургенев с восхищением говорит об импровизации модного в Париже проповедника Лакордера: Лакордер проповедовал или, лучше сказать, импровизировал с необыкновенным красноречием, с чувством непритворным и с верою истинною и внутреннею. <...> В Берлине слыхал я часто Шлейермахера, в Англии и Шотландии других знаменитых проповедников, но католического сильного оратора слышу я в первый раз. <…> В Лакордере есть много боссюэтовского, но это Боссюэт, прочитавший Ламене и знающий умственные буйства нашего века, рационализм и мистицизм Германии, сен-симонистов и проч37. Как лекции, так и проповеди носили характер развлечения, посещались светом. Ср. замечание в записках Тургенева:
Вчера был я два раза у Успенья, поутру и ввечеру, но поутру не дослушал проповеди К Ср., напр., также в «Жослене» Ламартина: - Mais au sermon, mon cher, que viendrait-elle faire? С образцами лекционной импровизации Тютчев был знаком уже со студенческих лет:
Ораторский талант Мерзлякова (читал эстетику, пиитизм и риторику в 1819-1820 и 1821-22 годах), снискавший ему любовь студенческой молодежи, проявился особенно в разборе литературных произведений. Эти лекции были в полном смысле слова импровизациями: он к ним не готовился. Приносил на кафедру Ломоносова или Державина, развертывал: случай открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. Все зависело от настроения минуты. В критике и профессоре скрывался поэт по призванию. Эти импровизации, приводившие иногда в восторг его слушателей, напечатлевались в их памяти40. В этом отношении интересны замечания брата Эрн. Ф. Тютчевой Карла Пфеффеля, считавшего, что пребывание Тютчева в Париже в 1828 г., где он посещал лекции профессоров Сорбонны: Гизо (история европейской цивилизации), Вилльменя (французская литература), Кузеня (история философии) - было завершающим этапом в европейском образовании Тютчева: Я познакомился с Тютчевым вскоре после его возвращения. По примеру учителей, коих имена я только перечислил [Гизо, Вилльмень, Кузень] разговор его нередко принимал форму ораторской речи: приходилось больше слушать его, чем отвечать. <…> В самом деле, если бы мне нужно было бы охарактеризовать особенности красноречия Тютчева и склад его ума в ту пору, я сравнил бы их с одной из глав «Размышлений о Французской революции» г-жи де Сталь, разумеется в ее устном изложении... 41 Развивая замечание Пфеффеля («импровизированные речи, лишь отдаленное подобие коих являет нам его писание...»), можно было бы сказать, что политические статьи Тютчева - записанные речи, на которых лежит отпечаток традиции французского проповеднического красноречия. Политическая лирика Тютчева также, в свою очередь, несет отпечаток политической «визионерской» речи-проповеди. М. П. Погодин оставил в своих воспоминаниях зарисовку: это сцена появления уже стареющего Тютчева в салоне: Низенький худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, <…> вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре. Старичок пробирается нетвердой поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто не нашел, на что нужно обратить внимание... к нему подходит кто-то и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно по сторонам. Кажется, ему уже стало скучно: не думает ли он уйти назад. Подошедший сообщает новость, только что полученную, слово за слово его где-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Эта сценка носит не документальный, а скорее обобщающий характер. Важный элемент этой зарисовки - небрежность всего облика Тютчева, создающая контрастный фон, на котором дана его «блистательная импровизация». Знаменитая небрежность, забывчивость Тютчева тесно связана с одной из важнейших проблем тютчевоведения, - с вопросом об обращении Тютчева со своими стихами. Надо при этом иметь в виду, что текст в культуре романтизма часто представлен как фрагмент, обрывок, иногда находка, побуждающая к разгадыванию смысла. Ср., например, описание страниц «дневника в стихах» «Жослена» Ламартина, произведения, с которым Тютчев был хорошо знаком:
«N' Тютчевские стихи записывались вслед за сложившимся в голове текстом, часто под диктовку. Пигарев останавливается на этой особенности тютчевского «письма»: Если вся творческая работа Пушкина протекает всецело на наших глазах, то возникновение и первичная стадия развития тютчевских поэтических образов от нас скрыты. Бумага служила поэту для записи в целом уже сложившегося и выношенного в голове стихотворения43. Ср. также у И. Аксакова:
Стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали44. И. Аксаков, и Эрн. Ф. Тютчева настойчиво говорят о безразличии Тютчева к записям собственных стихов, равно как к их печатным текстам в «Современнике». Ср., напр., замечание Эрн. Ф. Тютчевой: У моего супруга полностью отсутствует шишка собственности, а потому, набросав на бумагу свои идеи, он становится столь же к ним равнодушен, как к судьбе своего родового имения45. Поскольку сочинение стихов у Тютчева носит характер не письменный, то отношение к стихам как единичным речевым актам переходит у Тютчева, по-видимому, на отношение к записям собственных стихов. Характерно, в этом отношении, замечание Аксакова: Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи, или в стихах, угасало и исчезало из памяти46. Продиктованный стих - уже осуществлен как речевой акт. Возврату к нему мешает также весь комплекс импровизации. Личные свойства Тютчева спаяны с артистической позой, невозможно было бы провести между ними грань. К этим двум факторам (ориентация на устность и этикет романтической небрежности), имманентным творчеству Тютчева, добавляется после возвращения в Россию еще один: Тютчев, как и Вяземский, пережил 30-е годы 19-го века, когда Европа была «наводнена поэзией», и оказался за водоразделом, отделяющим разные поколения культуры, в иной системе координат.
Эти аспекты смысла соединены в одном мета-стихотворении Тютчева, посвященном «Михаилу Петровичу Погодину» и говорящем в духе салонной остр
Стихов моих вот список безобразный - Текст приравнивает стихи к речевому акту как кратковременные, т.е. метафорически «смертные». Иначе говоря, речевой, ориентированный на импровизацию, характер творчества у Тютчева тесно связан с подспудной темой «смертности стихов». Стихи, по аналогии с человеческой жизнью, ставятся под знак не только быстротечности, но также и культурной «несвоевременности». Словесное творчество подвергается с самого начала сдвигу в ретроспективу, отодвигается от автора в прошлое характерным для Тютчева приемом ретроспективного взгляда на настоящее47. Поскольку устный и письменной тексты уравнены как «смертные», в качестве оплота непреходящего смысла начинает выступать предречь - еще не сказанное слово. Предречь - не только источник романтической философской интроспекции, но и опора, на которую опирается практика - устная культура салона, оперирующая скрытыми готовыми смысловыми соединениями. В этом ракурсе - как мета-текст, вызванный к жизни речевой культурой эпохи, может быть перечитан «Silentium!»
1 Тынянов Ю. H. Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 375. Назад 2 Тынянов Ю. H. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 30. Назад 3 Лотман Ю. M. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика II. Тарту, 1979. С. 108. Назад 4 Там же. С. 117. Назад 5 Вяземский П. А. Старая записная книжка // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1883. Т. 8. С. 506-507. Назад 6 Ср.: Лотман Ю. M. Цит. соч. С. 117. Назад 7 Ср., напр., такой памятник куртуазной культуры как «Принцесса Клевская» М-м де Лафайет. Назад 8 Гинзбург Л. Я. Вяземский и его «Записная книжка» // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 90-91. О жанре литературного анекдота см. также: Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской поры. Helsinki, 1995. С. 156-186. Назад 9 Вяземский П. А. Старая записная книжка // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1883. Т. 8. С. 8. Назад 10 «Выдержка из частного письма по поводу кончины Ф. И. Тютчева». Русский архив [Год двенадцатый]. 1874. Кн. 1, 1375. Назад
11 См. указание на книгу Лабрюйера в собрании музея в Мураново: La Bruy 12 О датировках поездок Ф. Тютчева в Париж см.: Осповат А. Л. О стихотворении «14-ое декабря 1825» (К проблеме «Тютчев и декабризм») // Тютчевский сборник: Статьи о жизни и творчестве Федора Ивановича Тютчева. Таллинн, 1990. С. 248 (Прим. 16). Назад 13 Вяземский П. А. Старая записная книжка // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. СПб., 1883. Т. 8. С. 173. Назад
14 Здесь и в дальнейшем текст книги М-м де Сталь «О Германии» цитируется по: Madame de Sta
15 О литературных салонах в Германии эпохи романтизма см., напр.: Drewitz I. Berliner Salons. Berlin, 1984; Seibert P. Der literarische Salon. Literatur und Geselligkeit zwischen 16 Азадовский K. M., Осповат А. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе (К истории отношений) // Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. Кн. 2. С. 458. Назад 17 Там же. С.458, 462. Назад
18 Ср. упоминание Аполлониуса фон Мальтица в дневнике Варнгагена фон Энзе от 23 января 1820 г.: «Abends Herr von Maltitz bei uns; von russischer Verfassung will noch nicht
19 Schleiermacher Fr. D. E. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 2 (Schrifter aus der Berliner Zeit 1796-1799). Hrsg. von G 20 Эл. Ф. Тютчева - Н. И. Тютчеву (Мюнхен <1> 13 июня 1833 г.): Тютчев в письмах и дневниках членов его семьи и других современников // Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. Кн. 2. С. 188-189. Назад 21 П. В. Киреевский 15/27 января 1830 г.: Письма Петра Васильевича Киреевского 1829-1854. М., 1905. С. 18-19. Назад
22 См., напр., альбом: Freiherr von Sch 23 П. В. Киреевский - И. В. Киреевскому 12/24 сентября 1829 г.: Письма Петра Васильевича Киреевского 1829-1854. М., 1905. С. 9. Назад 24 П. В. Киреевский - родителям 3/15 января 1830 г. Там же. С. 16. Назад 25 П. В. Киреевский - И. В. Киреевскому 7/19 октября 1829 г. Там же. С. 13. Назад 26 Ср.: И. В. Киреевский во время посещения брата в Мюнхене на Пасху: «Сегодняшний день старались мы, сколько возможно, сделать нашим Светлым Воскресеньем, по крайней мере, с внешней стороны. В 9 часов отправились в Греческую церковь. Но здесь ничто не напоминало нам даже русской обедни, потому что, кроме Греческого языка, в здешней церкви еще та особенность, что поп вместе дьячок и дьякон и поп. Зрителей, любопытных немцев, собралась непроходимая толпа, а из русских, кроме нас, были только Тютчевы, у которых мы сегодня и обедали. Оба брата и жена Федора Ивановича очень милые люди, и покуда здесь, я надеюсь видеться с ними часто. Жаль, для моего брата, что они едут в Россию» (И. В. Киреевский - родителям 18 апреля 1830 г. // Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. / Под ред. М. Гершензона. М., 1911. Т. 1. С. 40). Назад 27 Письма Ф.И. Тютчева к его второй жене урожд. баронессе Пфеффель // Старина и новизна. СПб., 1914. Кн. 18. С. 53. Назад 28 Топоров В. Н. Заметки о поэзии Тютчева (Еще раз о связях с немецким романтизмом и шеллингианством) // Тютчевский сборник: Статьи о жизни и творчестве Федора Ивановича Тютчева. Таллинн, 1990. С. 32-107. Назад 29 Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева // Урания: Тютчевский альманах. Л.: Прибой, 1929. С. 10. Назад 30 Здесь и в дальнейшем текст политических статей Тютчева цитируется по: Тютчев Ф. И. Политические статьи. YMCA-PRESS. Р., 1976. Назад 31 Здесь и в дальнейшем стихи Тютчева цитируются по: Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений Л., 1957 (Библиотека поэта. Большая серия). Назад 32 Топоров В. Н. Цит. соч. С. 65. Назад 33 Novalis. Monolog: Fragmente II. Heidelberg, 1957. S. 203-204. Назад 34 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 250. Назад 35 Heine H. Werke. Briefwechsel. Lebenszeugnisse. Bd. I. (Gedichte 1812-1827). Berlin; Paris, 1979. Назад 36 Бухштаб Б. Я. Ф. И. Тютчев // Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 45. Назад 37 Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825-1826). М.; Л., 1964. С. 79. Назад 38 Тургенев А. И. Цит. соч. С. 98. Назад
39 Lamartine. Oeuvres po 40 Шевырев С. П. Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета. М., 1855. Ч. 2. Цит. по: Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 96. Назад 41 Пигарев К. В. Карл Пфеффель о Тютчеве // Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. Кн. 2. С. 33-34. Назад 42 Погодин М. П. Воспоминания о Тютчеве // Московские ведомости. № 190. 29 июля. Цит. по: Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. С. 119. Назад 43 Пигарев К. В. Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева // Литературное наследство. М., 1921. С. 396. Назад 44 Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 83. Назад 45 Эрн. Ф. Тютчева - К. Пфеффелю (Овстуг. 13-16/25-28 июля 1849 г.) // Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. Кн. 2. С. 233. Назад 46 Аксаков И. С. Там же. С. 41. Назад 47 Ср. наблюдения Романа Лейбова над сдвигом в ретроспективу у Тютчева: Leibov R. Tiutchev's Unnoticed Cycle // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from the International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Rodopi, 1993. P. 87-88. Назад * Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 9-30. Назад © Анна Юнггрен, 1999 |
 e. Caract
e. Caract res et anecdotes» (1795). Жанр краткой сатирической зарисовки характера в духе Шамфора или Лабрюйера («Характеры» Лабрюйера были подарены Тютчевым дочери Марии Федоровне в 1860 г.)
res et anecdotes» (1795). Жанр краткой сатирической зарисовки характера в духе Шамфора или Лабрюйера («Характеры» Лабрюйера были подарены Тютчевым дочери Марии Федоровне в 1860 г.) tranger francis
tranger francis tant au centre du nord de l'Allemagne, peut
tant au centre du nord de l'Allemagne, peut  tre consid
tre consid res. On y cultive les sciences et les lettres, et dans les d
res. On y cultive les sciences et les lettres, et dans les d ners d'hommes, chez les ministree et ailleurs, on ne s'astreint point
ners d'hommes, chez les ministree et ailleurs, on ne s'astreint point  la s
la s tigkeit) в свободной игре мысли и ощущения через обмен мнениями. Участники общества определяются по отношению к предмету общих интересов, т.е. в первую очередь не иерархически, а как субъекты речи («Alle sollen zu einern freien Gedankenspielen angeregt werden durch die Mitteilung des Meinungen»)
tigkeit) в свободной игре мысли и ощущения через обмен мнениями. Участники общества определяются по отношению к предмету общих интересов, т.е. в первую очередь не иерархически, а как субъекты речи («Alle sollen zu einern freien Gedankenspielen angeregt werden durch die Mitteilung des Meinungen») il est question du passage de ce fleuve par l'arm
il est question du passage de ce fleuve par l'arm mliche der Sprache, dass sie sich bloss um sich selbst bek
mliche der Sprache, dass sie sich bloss um sich selbst bek ussert sich die Weltseele und macht sie zu einem zarten Massstab und Grundriss der Dinge. So ist es auch mit der Sprache - wer ein feines Gef
ussert sich die Weltseele und macht sie zu einem zarten Massstab und Grundriss der Dinge. So ist es auch mit der Sprache - wer ein feines Gef nes Liebchen, / Das du einst so sch
nes Liebchen, / Das du einst so sch ра от тесноты и духоты, а ввечеру не К
ра от тесноты и духоты, а ввечеру не К ton
ton  ты об отношении Тютчева к текстам своих стихов:
ты об отношении Тютчева к текстам своих стихов:
 re J. Les
re J. Les  l'Acad
l'Acad l. De l'Allemagne. P., 1882.
l. De l'Allemagne. P., 1882.  nchner Romantik». Von der Aufkl
nchner Romantik». Von der Aufkl mmungen in M
mmungen in M tique. Biblioth
tique. Biblioth que de la Pl
que de la Pl