 |
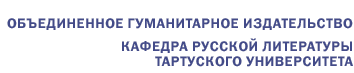 |
|
К ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ Ф. И. ТЮТЧЕВА И М. П. ПОГОДИНА* КИРИЛЛ РОГОВ
Сведения об общении Тютчева и Погодина в 1820-1822 годах неизменно привлекали внимание «тютчеведов»; впервые опубликованные Н. П. Барсуковым [Барсуков I.] записи погодинского «Дневника» о Тютчеве явились одним из немногих прямых источников его ранней биографии [см., например, Чулков, Пигарев]. Дополненные несколькими записками Тютчева к Погодину того же времени [Благой] и некоторыми новыми выписками из «Дневника» [Королева], они составляют картину приятельских отношений двух университетских студентов и той интеллектуальной атмосферы, которой они причастны, позволяя уловить некоторые черты формирующейся литературной позиции юного Тютчева. В известной мере итоговой выглядит подборка свидетельств из дневников и воспоминаний Погодина, составившая целый раздел тютчевского тома «Литературного наследства» [ЛН. С. 7-29], и все же тему «Погодин и Тютчев» нельзя считать исчерпанной ни в источниковедческом, ни в концептуальном плане. Прежде всего следует остановиться на самом начале этих отношений. Первая запись о посещении Тютчева в с. Троицком датирована у Погодина 9 августа 1820 г. [ЛН. С. 10]. Встрече этой предшествовала записка Тютчева к Погодину от 8 августа, свидетельствующая, что еще в июле в Москве меж ними было условлено воспользоваться близостью Троицкого и Знаменского, где в подмосковной Трубецких проводил лето Погодин [Благой. С. 386]. К сожалению, свой дневник под названием «Моя жизнь» Погодин начал лишь 18 июля 1820, однако практически нет сомнений, что 6 июля он присутствовал на ежегодном торжественном университетском акте, где, как известно, читались стихи Тютчева «Урания». Чтение это, по всей видимости, окружено было соответствующей аурой и воспринималось «университетскими» как событие примечательное и незаурядное: Тютчеву протежировал кумир Погодина и московских студентов-словесников А. Ф. Мерзляков, представлявший его ранние опыты в ОЛРС, а произнесение «Урании» на торжественном акте заменяло традиционные стихотворные похвалы университету и наукам самого Мерзлякова, неизменно звучавшие на актах прошлых лет. В связи с этим привлекает внимание запись Погодина от 26 июля, которую, на наш взгляд, и следует считать первым упоминанием о Тютчеве в его дневнике:
Пунктуация тютчевского стихотворения совершенно отвечает этому полемическому описанию: из первых 15 стихов четыре кончаются многоточием и четыре «тиретами», а всего на 194 стиха пришлось 26 многоточий и 39 тире [Речи, отчет и стихи]1. Кроме того следует иметь в виду восторженный педантизм неофитов-словесников, чтобы оценить настоящий смысл записи: речь идет именно о неординарном явлении и «стихи Т.» оценены весьма высоко (так, о «Руслане и Людмиле» Погодин тремя месяцами позже запишет: «Восхищался некоторыми описаниями <...>; в целом же такие несообразности, нелепости, что я не понимаю, каким образом они <могли> притти ему в голову» [ЛН. С. 12]). Характерно, что претензии Погодина и его товарищей направлены не против «одического приема» («каждый стих отдельно хорош»), но против его обнажения в пунктуации и нарушения логической связности, в чем архаистически воспитанные ученики Мерзлякова увидели веяние моды. Весьма замечательно, что годом позже пристрастие к тире было отмечено А. С. Шишковым в ряду претензий к переводу Вергилия, выполненному наставником Тютчева Е. С. Раичем, и также квалифицировано как дань моде (см. в письме Шишкова об этом предмете И. И. Дмитриеву 13 сентября 1821: «Черточки (тире) есть также новое изобретение, показующее больше упадок, нежели возвышение ума. Оне, сколько их не наставь, не прибавляют ничего к ясности смысла и силе выражения» [Письма к Дмитриеву. С. 10 и сл.]). В пунктуации тютчевских стихов таким образом можно видеть влияние литературных вкусов его наставника, а острая реакция в кругу Погодина обнаруживает тот оттенок «вольности», который привносила она в одическую структуру и который вполне ощутим был на фоне педантического архаизма университетских выучеников Мерзлякова.
Беседы Тютчева и Погодина, отраженные погодинским «Дневником», касаются весьма широкого круга современных литературных и общественных событий (от волнений в Семеновском полку, греческого восстания и произведений Пушкина до привезенного в Москву зверинца «братьев и сестер Деннебек»2) и не раз становились предметом анализа и комментирования [Королева; Осповат 1987; Осповат 1990]. Уже первый, относительно подробно законспектированный Погодиным разговор 9 августа 1820 в известной мере передает то общее умственное настроение, которое способствует их сближению: «... разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде (Agathod Оттенок «серьезности», проявивший себя и в предмете разговора, и в библиотеке упомянутых авторов, а также явное предпочтение, оказываемое немецкой литературе и немецкому просвещению (см. также записи за 25 августа, 26 ноября, 2 декабря 1820, 31 августа 1821 - ЛН. С. 11-13), характеризуют специфическую атмосферу их общения, а в более широком плане - ту новую литературную культуру, которая формируется в среде московской околоуниверситетской молодежи в эти годы. Весьма примечательно, что понятия «литература» и «просвещение», постоянно фигурирующие в погодинских записях, подразумевают здесь не традиционные французские концепты (la instruction, la belles-lettres), но связываются с представлением об универсальной университетской учености. Именно с этих позиций выносятся строгие оценки российской словесности, противопоставленной эталону немецкого «университетского» просвещения: «был у Тютчева, говор<ил> с ним о просвещении в Германии, о будущем просвещении у нас, об ограниченности в познаниях наших писателей. Кто из них, кроме новейших, знал больше одного или двух языков? - А у немцев какая всеобъемлемость?» [ЛН. С. 12]. В этих общих, энтузиастически разделяемых обоими приятелями воззрениях обнаруживаются, однако, при ближайшем рассмотрении весьма примечательные оттенки. Сын крепостного, получившего вольную в 1806 г., Погодин, окончив гимназию первым учеником, связывал с Московским университетом не только мысль об образовании, но и весь свой жизненный план - надежды на социальное самоутверждение и материальное благополучие. Тютчев же предстает перед ним в образе аристократа и «блестящего дарования», чуждого провинциализма и неофитства: «Его рассуждения свысока о Виланде и Шиллере, Гердере и Гете, которых как будто принимал он в своей предгостинной, возбуждали желание сравниться с его начитанностью» [ЛН. С. 182]3. Эта поза мотивирует его радикальный скептицизм: неизменно критичны суждения Тютчева об университетских профессорах, в том числе и Мерзлякове (запись от 13 октября 1820), и московской университетской учености в целом (записи от 9 августа, 11 октября 1820 и др.). Закономерно возникает в этом контексте и тема перехода Тютчева в Дерптский университет, который выступает в качестве своеобразного субститута настоящих германских университетов (о противопоставлении университетского и неуниверситетского, в частности - лицейского образования в связи с дерптскими планами Тютчевых и в контексте темы «Пушкин и Тютчев» см. [Осповат 1990. С. 62-65]). По всей видимости, известная запись Погодина от 25 октября 1820 («Говорил с Тютч<евым> о Дер<п>тск<ом> универ<ситете>. - Они едут в Дерпт.» [ЛН. С. 12]) была не первым разговором на эту тему. Еще 15 октября Погодин записывает:
Судя по всему, сведения о Клингере и Радищеве почерпнуты именно из разговора о русском просвещении с Тютчевым, а имя Максимилиана Фридриха Клингера, культовой фигуры раннего немецкого романтизма и попечителя Дерптского университета, - очевидно, еще один знак связи Дерпта с традициями истинного немецкого просвещения в контексте противопоставления его московскому. Однако разговоры Погодина с его ближайшими приятелями в известной мере полемичны по отношению к тютчевскому негативизму. Так, в беседе с А. М. Кубаревым в те же дни (24 октября) намечен, в сущности, альтернативный тютчевскому план дальнейшего образования:
- предполагая самостоятельными занятиями компенсировать ограниченность университетского курса, друзья надеются поравняться с немецкой ученостью, избегнув присущих «немецкому духу» недостатков («суетности»). Аналогичным образом, беседуя с Кубаревым 10 декабря 1820, Погодин его «уговарив<ал> подпис<аться> на Раичев перевод Верг<илиевых> Георг<ик>» [Дневник I. Л. 45], - несомненно, под влиянием Тютчева, от которого был наслышан об этом труде. Однако в другом разговоре (1 января 1821) принужден был, кажется, согласиться со скептическим взглядом Кубарева:
Мечтание о новом переводе «Георгик», несомненно, полемично по отношению к только что оконченному переводу Раича и противополагает ему Мерзлякова, с которым Погодин и Кубарев связывают надежды на адекватное воспроизведение «духа античности» в русской поэзии. Любопытно при этом, что, вопреки позиции самого Мерзлякова, они выступают сторонниками русского гекзаметра, отвергая архаический выбор Раича в пользу ямба5. Неудовлетворенность переводом Раича и уже сложившееся противопоставление 'Раич - Мерзляков' отразились и в известном весьма остром разговоре Тютчева с Погодиным 23 января 1822:
Характерно здесь и то, что Погодин отказался от Итальянской грамматики, интерес к которой, по всей видимости, был связан с транслировавшимися Тютчевым итальянскими увлечениями Раича7, и общий смысл погодинской инвективы. Вергилий и Делиль, ассоциированные в актуальном литературном контексте 1810-х гг. благодаря образцовому делилеву переводу «Георгик», здесь однозначно противопоставлены. В подтексте погодинского выпада таким образом - общее отрицательное отношение обоих собеседников к французской традиции дидактической поэмы, которая рассматривается как неверное и салонное подражание античной «описательной поэзии». Собственно, этот взгляд и был как раз подробно развернут в магистерской диссертации Раича, являвшейся одновременно своеобразным комментарием к его переводу Вергилия. Таким образом стилистический эксперимент Раича, имевшего в виду противопоставить французской салонности Делиля «благородную простоту» «золотой латыни», которую он надеялся «привить» русской поэзии, отвергнут здесь полемическим отождествлением самого Раича с Делилем и противопоставлен архаизированной «древности» мерзляковских переводов (об отношении Раича к Делилю и об этой полемике Тютчева и Погодина см. также [Рогов. С. 526-528]). Чрезвычайно существенно, однако, что на фоне этого решительного несогласия относительно Раича и Мерзлякова Тютчев и Погодин демонстрируют практически полное единодушие в представлении о насущных «потребностях» современной русской поэзии: перевод шедевров античной «описательной поэзии», отказ от французской «напудренной» античности XVIII в., необходимость тщательного изучения латыни, ориентация на новейший немецкий взгляд на античность, - расходясь лишь в вопросе о том, кто (а, следовательно, и как) может эти задачи решить. Весьма показательно поэтому, что А. Ф. Воейков, также переводчик Вергилия, в своей рецензии на перевод Раича причисляет его к школе Мерзлякова, не почувствовав тех московских оттенков, которые стали причиной споров Погодина и Тютчева. Противопоставление Раича и Мерзлякова не только обнажает определенные оттенки литературных взглядов Тютчева и Погодина, но имеет и более широкий социокультурный контекст. Мерзляков, несмотря на свой «закат», широко обсуждаемый университетскими, остается для Погодина воплощением традиций «московской учености», с которой связаны его надежды на новый ход российской словесности и просвещения в целом. Предположенная в разговоре Погодина с Кубаревым биография Ломоносова, написанная Мерзляковым, и есть знак того «чуда» русского (московского) просвещения («ломоносовский» подтекст ощутим и в плане самообразования Погодина-Кубарева: «впитывание» немецкой учености и одновременное отвержение «немецкого» как такового - ключевой миф ломоносовской биографии), которое заставляет Погодина, несмотря на вполне критическое отношение к рутине университетского преподавания, оставаться адептом «московской учености», ассоциируемой с университетом, и сопротивляться тютчевскому тотальному негативизму, за которым - вполне оформившаяся эскапистская установка.
По выходе Тютчева из университета его контакты с Погодиным становятся гораздо более отрывочными, кроме того, весну 1822 Тютчев провел в Петербурге, а летом окончательно покинул Москву для Германии. Едва ли, однако, в Мюнхене он не имел сведений о Погодине и, в частности, о том, что в 1823-1825 гг. тот стал деятельным участником образовавшегося вокруг Раича литературного общества. С другой стороны, и Тютчев, по всей видимости, не только не был забыт в раичевском обществе, но входил в орбиту «кружковой легенды», а некоторые его мюнхенские стихотворения этого периода, возможно, непосредственно обращены к обществу («Друзьям - при посылке Песни радости»)8. - Тем любопытнее, что их встреча летом 1825 оказывается вполне прохладной: немногие записи погодинского «Дневника» почти не фиксируют литературных разговоров, а впечатление, произведенное на Погодина Тютчевым, - скорее отрицательное, прежде всего вследствие его светского тона, который претит Погодину (ср. «Мечет словами, хотя и видно, что он там не слишк<ом> мн<ого> занимался делом; он пахнет двором»; «Гов<орил> с Тютчевым, с которым мне не говорится». - ЛН. С. 139). По всей видимости, Тютчев не проявил летом 1825 особого интереса к литературной и ученой жизни Москвы, которой жил Погодин. Несмотря на это он, как известно, принял участие в изданном Погодиным альманахе «Урания» и даже сыграл в его судьбе весьма существенную роль. Намерение издать альманах созрело у Погодина вскоре после отъезда Раича из Москвы, прервавшего собрания общества и разговоры о журнале, который был предметом постоянных обсуждений «раичевцев» в 1823-1825 гг. (подробнее см. [Рогов. С. 536-538]). К тому же летом 1825 г. Погодин испытал прилив творческой активности, вылившийся в несколько повестей, и осенью с энтузиазмом и напором взялся за сбор материалов для альманаха, заручившись, с одной стороны, поддержкой Мерзлякова (что естественно), а с другой - Вяземского, доставившего ему, как известно, наряду со своими и несколько стихотворений Пушкина. Еще в начале октября, в самый момент возникновения замысла, определилось название - «Московская комета» (ср. записи за 1-9 октября: «- Был как то у Озноби<шина> и блеснула в голове мысль издать Комету. Начал искать средства и пр.»; и за 11 октября: «Разбир<ал> бумаги для Моск<овской> Кометы...» [Дневник II. Л. 127 об.]). Так рекомендовал Погодин предполагаемый альманах в те же дни и находившемуся в Москве Павлу Свиньину, который немедленно поведал о том в своем журнале10. Но еще более любопытно, что под тем же именем фигурирует альманах, уже прошедший цензуру и поступивший в типографию, в последней записи накануне предпринятой Погодиным в декабре 1825 поездки в Петербург:
Погодин прибыл в Петербург 23 декабря, еще в Новгороде узнав о происшедшем в столице возмущении. Видимо, вскоре по приезде он рассказывал о своем предприятии Ф. Булгарину, по крайней мере в «Северной Пчеле» от 5 января (№ 2) 1826 было сообщено: «Из Москвы ожидаем альманаха, под названием Комета, изданного Г. Погодиным; о содержании этой книжки мы слыхали много хорошего», - т.е. название альманаха оставалось прежним. Однако подробности выступления на Сенатской площади и начавшиеся аресты, а также, вероятно, резкая оценка заговорщиков, услышанная из уст Карамзина [Погодин 1866. С. 471]11, меняют настроение Погодина. Как сам он вспоминал впоследствии, опасения политического характера склоняли его к мысли остановить выход книжки, однако именно Тютчев, с которым он жил в одном трактире, ободрил его и отговорил от такого намерения [Погодин 1872. С. 337. Прим. **]. В эти же дни и было сменено заглавие альманаха, потому что в объявлении «Северной пчелы» от 16 января (№ 7) он назван уже «Уранией». Не слишком вероятно, что новое заглавие было непосредственно предложено Тютчевым (скорее всего Погодин упомянул бы такой факт в позднейших мемуарах), но в известной степени, как представляется, было связано с ним. Смена заглавия была вызвана, несомненно, политическими причинами. Сам замысел альманаха был очевидным подражанием «Полярной Звезде», что было отмечено уже в первом известии о нем П. П. Свиньина; рецензент же «Московского Телеграфа» писал по выходе книжки, что издатель хотел походить на «Полярную Звезду» даже оформлением (Московский телеграф. 1826. Ч. VIII. № 8. С. 357-359). Меж тем к приезду Погодина в Петербург издатели «Звезды» находились в крепости, а Бестужев к тому же подозревался в убийстве Милорадовича. На таком фоне прежнее название звучало настоящим вызовом, декларацией сочувствия и преемственности, еще более усиленной актуальной «исторической» семантикой образа «кометы» как грозного предзнаменования12. Между тем для Погодина важна была не только прозрачная параллель, но и определенное противопоставление «звезды» и «кометы», таившее в себе, с одной стороны, мысль о стремительном приобретении литературной известности, о чем он напряженно мечтал, а с другой - противопоставление петербургскому альманаху московского. Актуальность такого латентного противопоставления подкреплялась и достаточно принципиальными расхождениями «раичевцев» и петербургских сторонников «романтической школы», выявившимися в ходе полемики вокруг отрывков перевода Раича «Освобожденного Иерусалима», в которой Погодин принял непосредственное участие [Рогов. С. 540-543]. «Московский» характер альманаха - причем именно в погодинском понимании - был ясно обозначен и той особой ролью, которая отводилась в нем недооцененному (с точки зрения Погодина) петербургской литературой Мерзлякову: его переложения античных гимнов открывали и пронизывали всю книжку. «Московскую» атмосферу создавали также публикация переписки московского митрополита Платона с Потемкиным и колористический очерк П. Муханова «Святая неделя». О популярности образа Урании, романтические интерпретации которой строятся преимущественно вокруг этимологического значения «небесная», позволявшего объединять «науки», «поэзию» и «добродетели» как атрибуты богини в целостном концепте 'небесного', 'божественного' просвещения (противопоставленного рационалистическому просвещению XVIII в.), помимо тютчевских стихов и погодинского альманаха, свидетельствует также известная стихотворная подпись Д. Веневитинова к рисунку Ф. Скарятина в нотной тетради В. Ф. Одоевского [Веневитинов. С. 63, 488-490]. Однако, по нашему мнению, выбор Погодина отсылает непосредственно к тютчевскому стихотворению. Произнесенная на торжественном годовом университетском акте, тютчевская «Урания» вписывалась в традицию «университетских» стихотворений Мерзлякова, читанных на актах прошлых лет («Возобновление Минервина Храма» и «Хор, петый в годовом торжественном собрании Императорского Московского Университета, в новой большой его аудитории»13; ср. [Пигарев. С. 33]), в которых поводом к традиционной теме «расцвета наук» становилось строительство и восстановление университетских помещений, разрушенных в 1812 г. Тютчевский «остров Урании» («И се! Как луна из-за облак встает / Урании остров из сребрянной пены») в этой ситуации также оказывался образом Московского университета, а картина translatio studii, составившая одический сюжет, излагалась как история храмов Урании от древних Фив до «Фив новых», ныне возрождаемых после войны («Здесь паки гений просвещенья, / Блистая светом обновленья» и т.д.). - Более того, можно предположить, что аллегорическая картина первой части стихотворения, описывающая восседающую на троне и окруженную добродетелями Уранию (стихи 22-59), предполагала дейктический жест, иными словами - изображение Урании присутствовало в оформлении нового здания университета или его новой большой аудитории, открытой за год перед тем. Во всяком случае, как представляется, именно удачное сочетание той семантики, которая предопределила популярность образа Урании у «любомудров» ('небесное просвещение'), и устанавливаемого тютчевскими стихами значения «храм Урании = Московский университет», имплицирующего мифологию «российского просвещения» («Восстал от Холмогор, - как сильный кедр, высокой / <...> / Так Росский Пиндар встал! <...> / И дни бесценные блаженства и покоя / Елизаветы озарил! / Тогда, разлившись, свет от северных сияний / Дал отблеск на крутых Аракса берегах; / <...> / И Фивы новые зарделися в лучах...»), определило выбор Погодиным нового названия для своего альманаха. - Любопытным образом эмблематическая утопия тютчевских стихов, весьма далекая, как мы имеем возможность убедиться, от его настоящего взгляда на «московскую ученость», стала удачным знаком той идеологии «московского просвещения», в центре которой для Погодина находилась традиция университетской учености, освященная именами Ломоносова и Мерзлякова.
Следующая, после восемнадцатилетнего перерыва, встреча с Тютчевым вовсе не нашла отражения в погодинском «Дневнике». В сущности, известно лишь одно определенное свидетельство, которое в силу своей отрывочности не становилось предметом специального анализа; между тем оно не только позволяет реконструировать основной сюжет этой встречи, но и уточняет актуальный контекст политических идей Тютчева середины 1840-х гг. Речь идет об отрывке из письма С. П. Шевырева Погодину от 19 июля 1843 г.: «Возвращаю тебе письмо Мельникова. Нам только приятное говорят люди Европейские, как Тютчев, да наши добрые соотечественники со всех концов России, а от своих слова путного не дождешься. Так и должно. Тютчев не мог иначе выразиться на счет твоего отчета. Ты человек практический столько же, сколько и ученый. Жаль, что я не видел Тютчева, но еще надеюсь» (без последней фразы опубл. [Барсуков VII. С. 157], автограф - ОР РГБ. Ф. 231/II. 36. 32; письмо Шевырева из с. Вяземы является ответом на письмо Погодина, к которому было приложено комплиментарное в отношении московских университетских профессоров письмо П. И. Мельникова и в котором, как можно предполагать, Погодин и передавал Шевыреву отзыв Тютчева о своем «Отчете»). Эти строки свидетельствуют, что в первую же неделю пребывания Тютчева в Москве летом 1843 г. Погодин не только встретился с ним14, но и успел сообщить ему написанный для Министра народного просвещения С. С. Уварова «отчет» о путешествии по Славянским землям, который Тютчев, как видно, оценил весьма высоко. Таким образом, «славянский вопрос», об обоюдном интересе к которому собеседники, весьма вероятно, были предуведомлены В. Ганкой15, составлял тему их бесед летом 1843 г., и описанием именно ее атмосферы является, следовательно, пассаж из поздних мемуаров Погодина о Тютчеве: «Услышав его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий и коротко был мне знаком» [ЛН. С. 24]. Весьма примечательно при этом, что в следующей фразе этого воспоминания всплывает тема «практичности», мелькнувшая и в письме Шевырева 1843-го г.: «Что если бы с таким верным взглядом, с такою ясною мыслию, с таким живым чувством, при его разнообразных, обширных познаниях соединял он деловитость, практичность?» [ЛН. С. 25]. Достаточно яркими, видимо, были и впечатления от этой встречи Тютчева, отразившиеся в его письме жене от 26 июля: «Я встретил также несколько университетских товарищей, среди которых иные составили себе имя в литературе и стали действительно выдающимися людьми» [Тютчев 1984. Т. 2. С. 86]. Профессор российской истории и издатель журнала, Погодин, пожалуй, единственный вполне соответствовал этой характеристике (Шевырев не был «университетским товарищем» Тютчева16). Но особенное впечатление на Тютчева должно было произвести то, что «отчет» Погодина о путешествии по славянским землям в 1839 г., являвшийся в значительной своей части политической запиской по славянскому вопросу, был представлен Государю и получил его одобрение. Нет сомнения, что Погодин нашел случай упомянуть об этом, а то, что все политические рассуждения были Уваровым из составленного для Николая I экстракта исключены, Погодин узнал лишь в ноябре 1843 ([Дневник III. Л. 51, запись от 15 ноября]). Таким образом, Погодин в известном смысле предстает перед Тютчевым человеком, осуществившим ту программу, которую предполагал для себя некогда: положение московского литератора и университетского профессора, занятого российской и славянской древностью, позволяет ему сформировать настоящий взгляд на современную Европу, на место славянства в ней и историческое отношение ее к России, и более того - довести этот взгляд до сведения Государя. Неизвестно, которое из своих «Донесений» министру Погодин показал Тютчеву: представленный императору отчет 1839 г. или недавно, в мае 1843 г. оконченный отчет о путешествии 1842 г., реакции на который он с нетерпением ожидал (ср. его заключительные фразы с выражением надежды, что он «обратит на себя благосклонное внимание» Уварова «и удостоится предоставления Государю императору, как то было с отчетом 1839 года» [Погодин 1874. С. 69]). Однако главные мысли и общий пафос обоих донесений вполне совпадали, а в устных комментариях Погодин, видимо, имел случай вполне изложить Тютчеву свои взгляды на славянское единство. Имея формальным поводом отчет о контактах со славянскими учеными17, Погодин обозревает в своих донесениях угнетенное положение европейских славян и повсеместное распространение среди них сознания «народности» и, под видом непосредственных впечатлений, а также мнений и пересудов, слышанных во время путешествия, излагает свою панславистскую доктрину: повсеместный рост про-русских симпатий среди славян («Славяне смотрят на Россию, как волхвы смотрели на звезду с Востока» [Погодин 1874. С. 21]) и непрочность политического устройства Австрии открывают впечатляющую перспективу естественного (после распада австрийской и турецкой империй) образования федерации славянских государств «от Восточного океана до Адриатики» под протекторатом России. Эта концепция, откровенно полемичная по отношению к официальному легитимизму николаевской внешней политики, представлена у Погодина как непредвзятые наблюдения ученого-историка, способного оценить истинные пружины исторических событий и аналогически предвидеть «великие явления»18. Несомненно, что и эти смелые предположения, и сочувственное описание повсеместного пробуждения сознания «национальности» и славянской солидарности нашли живейший отклик у Тютчева. В не меньшей степени близок ему был и другой аспект «славянского вопроса», затронутый в первом, но особенно взволнованно и подробно разобранный во втором «отчете» Погодина: враждебность европейского, и прежде всего - немецкого, общественного мнения по отношению к России и трактовка «славянского вопроса» исключительно в контексте темы «русской угрозы». В донесении 1839 г., упомянув о вызвавшей новый всплеск этих настроений книге К.-Э. Гольдмана «Европейская пентархия» и резюмировав: «Россия решительно не имеет доброжелателей между Европейскими Государствами», - Погодин обосновывает необходимость воздействовать на европейское общественное мнение помещением «основательных» статей о России в европейской прессе [Погодин 1874. С. 43-44]. Во втором «отчете» этот общеевропейский политический контекст «славянского вопроса» выходит фактически на первый план, а враждебность немецкой печати («Германия, начиная с соседней с Пруссаками Саксонии, разделяет ненависть ея к России, и Лейпцигския, Дрезденския, и Рейнския газеты возбуждают самых Пруссаков» [Погодин 1874. С. 43, 59]) рассматривается как часть общей анти-русской кампании и реальная угроза славянскому единству. Между тем именно план организации про-русской кампании в европейской прессе составлял, по всей видимости, основное содержание политического проекта, представление которого являлось одной из главных целей поездки Тютчева в Россию в 1843 г. ([Аксаков], [Казанович], [Тютчев 1992], [Осповат 1994]). Кажется вполне вероятным, что Тютчев в какой-то мере приоткрыл свои планы на этот счет Погодину (об этом ниже), но во всяком случае и общая оценка европейского общественного мнения, и мысль о необходимости противопоставить ему «основательный» взгляд на «славянский вопрос» - на историческую детерминированность славянского единства - прямо перекликались с его собственными идеями и замыслами (ср., например, записи его бесед с Фалльмерайером [Казанович], фразу в разговоре с А. И. Тургеневым: «Герм<ания> вся нас ненавидит» [ЛН. С. 87] и, наконец, известное письмо к редактору «Allgemeine Zeitung» 1844 г.) и должны были еще более укрепить его в его намерениях (ср. в письме жене, уже из Петербурга: «Что же касается общественного мнения, то по сочувствию, какое встретил мой образ мыслей, я мог убедиться, что мне открылась правда...» [Тютчев 1914. С. 12. 2-й паг.]). Это замечательное совпадение выводов «ученого» путешествия Погодина с мыслями профессионального дипломата и знатока европейской политики, каким представал перед старым университетским товарищем Тютчев, и отразилось, видимо, в его комплиментарном удивлении «практичностью» погодинского «отчета», переданном Погодиным Шевыреву и отозвавшемся в ответной записке последнего. Еще один отзвук этих разговоров с Погодиным можно видеть в записи Варнгагена фон Энзе, которого Тютчев посетил на возвратном пути из России в сентябре 1843: «С необычайным проникновением Т. говорит о своеобразии русских и славян вообще, о языках, нравах, формах правления; обнаруживает широкий исторический взгляд на древний спор и национальную борьбу греческой и латинской церквей. В России все более и более открываются теперь сокровища средневековой литературы, особенно духовные сочинения, а также летописи, песни и былины. Все находят это новым, как было одно время у нас с Нибелунгами, минезингерами и т.д.» [ЛН. С. 460]. Обрисованный здесь круг ученых интересов в высшей степени характерен для Погодина, а упоминание занятий русской древностью в контексте «славянской темы», как бы свидетельствующее участие России в общем процессе «славянского возрождения», отсылает, кажется, именно к тому сцеплению мотивов, которое должно было выстроиться в их разговорах в ходе обсуждения погодинского «Отчета».
Эту вновь, после более чем двадцатилетнего перерыва возникшую между Тютчевым и Погодиным атмосферу сочувствия и единомыслия, как и высокую оценку погодинского «отчета», следует рассматривать, на наш взгляд, в общем контексте тютчевских настроений 1843 г. В отличие от вполне явных эскапистских устремлений, характерных для него в начале 1820-х гг. и, по-видимому, в 1825 г., поездка в Россию летом 1843 г. проходит под знаком сознательного (хотя и не добровольного) «путешествия в прошлое». Биографическая тема этого «путешествия» на родину после двадцати лет отсутствия разворачивается в его письмах к жене как мотивы «сна», «колдовства времени», посещения мира «призраков» (ср. описание встречи с Раичем: «Какое отвратительное колдовство! Люди, воспоминание о которых здешние места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только накануне расстался с ними, предстали передо мною почти неузнаваемыми от разрушений времени. <...> Не могу не верить в некое страшное колдовство»; или впечатление от старого отцовского дома: «он представился мне как во сне, и каким постаревшим и изнуренным я почувствовал себя очнувшись!»; «Помимо семьи, имеются еще тетки, кузины и пр. и пр., которые в первое время всплывали передо мной как призраки...» [Тютчев 1984. Т. 2. С. 82, 86]).
Эти сквозные для московских писем 1843 г. мотивы очевидно связаны с целым комплексом устойчивых тютчевских концептов и смысловых антитез, но прежде всего предстают непосредственной, развернутой реализацией данного еще в самом начале поездки в письме к жене определения разлуки как «сознающего себя небытия» (un n Преломление в биографической коллизии тютчевских взаимоотношений с родиной и родительским домом (= Москвой) устойчивых концептов тютчевской «поэтической онтологии» («страх пространства», противопоставление вертикально и горизонтально организованного пространства, оппозиция «север-юг») и формирует в значительной мере «московский текст» Тютчева 1843-го г.19 Однако параллельно «биографической» теме московские письма намечают и историческую, а точнее - историософскую интерпретацию этого «путешествия в прошлое», которая разворачивается здесь как тема «вечного города». Замечательно при этом, что обе темы - и «биографическая», и «историософская» - возникают у Тютчева еще до приезда в Москву, предваряя непосредственные впечатления (ср. «сонные» мотивы в письме из Варшавы, на пути в Москву: «Здесь я вновь обрел множество впечатлений, дремавших во мне уже многие годы и пробудившихся словно от толчка, едва я ступил на улицы Варшавы, ибо как-никак несмотря ни на что, этот город внешне чем-то родственен Москве...» <выделено нами. - К. Р.> [Тютчев 1984. Т. 2. С. 79-80]). Тема «вечного города», некоего восточного, славянского Рима оформляется у Тютчева еще раньше - сквозь призму пражских впечатлений. Замечательно, что уехавший из Москвы 20 лет назад (и не выказывавший видимого раскаянья) Тютчев, изъясняя свои впечатления от Праги энтузиасту «славянского возрождения» В. Ганке, немедленно превращается в «москвича» («Волшебный город эта Прага! - Я, москвич, должен сознаться, что ничего не видывал краше ее <...> Ни один город не смотрит на посетителя такими чудными, человечески-понятными глазами... В них столько жизни настоящей и столько пророческого <...> - В самом деле, нельзя, посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, под полупрозрачною пеленою великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая будущность!» [Тютчев 1984. С. 78]). Прага выступает очевидным прообразом той Москвы, которую Тютчев увидит полгода спустя (параллель эту он сам подчеркивает в письмах жене: «Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!» [Тютчев 1984. Т. 2. С. 82]) и в «пересеченном» ландшафте которой также обнаружит контур «метафизического пейзажа», имплицирующего тему «святого города» («Как бы ты почуяла наитием то, что древние называли духом места; он реет над этим величественным нагромождением, таким разнообразным, таким живописным. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом» [Тютчев 1984. Т. 2. С. 87]; ср., кстати, «urbi et orbi», выскочившее в конце «пражского» письма Ганке). - Москва и Прага выступают репрезентациями некоего инварианта «восточного», «славянского» Рима, а если добавить сюда «москвоподобную» Варшаву и Киев, упомянутый в разговоре с Фалльмерайером («Kijew Central und Herzpunkt des Slavismus» [Казанович. С. 151]), то перед нами весь набор славянских столиц, упомянутых в послании Ганке. Своеобразным ключом к «московскому тексту» тютчевских писем 1843 г., раскрывающим единство «биографической» и «исторической» тем в целостном образе «города-элизиума», представляется эпизод посещения в сопровождении родных Иверской Божьей Матери при отъезде из Москвы: «Одним словом все произошло согласно с порядками самого взыскательного православия... Ну что же? Для человека, который приобщается к ним только мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глубоко исторических, в этом мире Византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно, - в этом мире столь древнем, что даже Рим, в сравнении с ним, пахнет новизною, есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, величие поэзии необычайное, такое величие, что оно преодолевает самую яркую враждебность... Ибо к ощущению прошлого, - и такого уже старого прошлого, - присоединяется невольно, как бы предопределением судьбы, предчувствие неизмеримого будущего...» (цит. по переводу И. С. Аксакова [Аксаков. С. 21]). Характерная двойственность тютчевской точки зрения, сочетающая одновременную причастность и внеположность, мотивированная отчасти фигурой его корреспондентки, не бывавшей в России, а отчасти его собственной установкой - «сознательным небытием», пребыванием в мире теней, создает тот внутренний драматизм реального биографического эпизода, который позволяет пережить тривиальный ритуал московской обыденной религиозности как почти физическое соприкосновение с Византией, а мотив «примирения с родиной»20 и родными (уступкой которым выглядит в письме весь обряд проводов) подан, в результате, как прозрение внутренней сущности этого внеположенного европейскому «бытию/сознанию» мира21. Собственно, именно в этом пассаже впервые в известных нам тютчевских текстах появляется понятие «мира Византийско-русского», изъяснению которого будет посвящен тютчевский мемуар 1845 г., трактующий историческое бытие Российской Империи как непосредственное продолжение Византийской. Таким образом, внутренняя диалогичность пассажа (ср. тютчевское «Что ж!» - «Eh bien») может быть интерпретирована и как диалог «русского» Тютчева с немкой Пфеффель, и как отражение двойственной самоидентификации самого Тютчева, и, наконец, как полемика к неким loci communes (ср. нераскрытую ссылку на «порядки самого взыскательного православия», отсылающую к некому известному топосу, и, в особенности, слова о «величии поэзии», которая «преодолевает самую яркую враждебность»). - По нашему мнению, тютчевский рассказ о посещении иконы Иверской Божьей Матери непосредственно отсылает к А. де Кюстину, а описание этого важного биографического эпизода есть на самом деле своеобразный полемический парафраз соответствующего места из его знаменитой книги. Тютчев прочел «Россию в 1839 году» почти сразу после ее выхода и непосредственно накануне путешествия в Россию. 13 июня он сообщал из Вены жене, что переправит ей книгу через знакомого, - «и тогда тебе стоит только прочесть третий том, содержащий очень живое и яркое описание Москвы, чтобы составить себе верное представление о городе» [Тютчев 1914. С. 5. 2-й. паг.]. Мнение Тютчева не изменилось и в Москве, и, побывав в Кремле, он вновь «отсылал» жену к кюстиновым описаниям («Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг! Беру в свидетели самого господина Кюстина, которого, разумеется, нельзя заподозрить в пристрастии. Это единственное во всем мире зрелище. Отсылаю тебя к третьему тому его труда». [Тютчев 1984. С. 82]). Если же добавить к этому, что по дороге в Россию Тютчев в Варшаве беседовал о Кюстине с А. И. Тургеневым [ЛН. С. 86; Мильчина, Осповат. С. 118], а также его взвешенный и серьезный отзыв о книге в разговоре с В. фон Энзе на возвратном пути («О Кюстине отзывается он довольно спокойно, многое поправляет, но и признает его достоинства» [ЛН. С. 460]), то без всякого преувеличения можно сказать, что вся поездка проходит для Тютчева под знаком «России в 1839 году»22. Москва и московский Кремль являются несомненной кульминацией кюстинова путешествия, зримым воплощением того азиатского христианства, которое он обнаруживает под карикатурным европеизмом и в котором видит существо и суть загадочной славянской империи. Вдохновенное описание Москвы, «истоком» и средоточием которой является Кремль, в 24-27 письмах выстроено вокруг концепта древней столицы, стоящей на границе Востока и Запада, «Сухопутного Византия», осязаемо и зримо соединяющего в себе древний и новый мир. Это ощущение совмещающегося в одной картине настоящего и физически присутствующего «прошлого» реализуется у Кюстина в постоянных мотивах «сна», «грез наяву» и в характеристике Кремля как «обиталища призраков» (ср.: «когда смотришь, как дамы и господа, одетые по парижской моде, гуляют у подножия этого сказочного дворца, кажется, будто спишь и видишь сон!»; «Подобно скелетам гигантских древних животных, Кремль доказывает нам, что мир, в реальности которого мы все еще продолжаем сомневаться, даже находя его останки, все же существует»; «Вообразите себе однажды, в горячечном бреду, что вы прогуливаетесь по обиталищу людей, которые только что жили и умерли на ваших глазах, и вы сразу мысленно перенесетесь в Москву...» [Кюстин. С. 71, 74, 102; см. также: С. 64, 67, 72, 114]23). Кюстиново описание Москвы является таким образом, на наш взгляд, вполне очевидным подтекстом «московского текста» тютчевских писем 1843 г., связь с которым прослеживается на уровне структуры мотивов, а эпизод с Иверской - своеобразным контрапунктом этой смысловой игры. Анекдот о необычайно истовом всеобщем поклонении Иверской выступает у Кюстина одной из ярких деталей московской экзотики и еще одним штрихом для характеристики «азиатского христианства», в котором истовая обрядность носит механический и будничный, нерефлекторный характер (ср.: «все, кто проходят мимо этой иконы - господа и крестьяне, светские дамы, мещане и военные, - кланяются ей и многократно осеняют себя крестом; <...> хорошо одетые женщины склоняются <...> до земли и даже в знак смирения касаются лбом мостовой; мужчины, также не принадлежащие к низшим сословиям, опускаются на колени и крестятся без устали; все эти действия совершаются посреди улицы с проворством и беззаботностью, обличающим не столько благочестие, сколько привычку» [Кюстин. 2. С. 116]). Именно к этому чрезвычайно важному для кюстинова описания России топосу отсылает, на наш взгляд, упоминание «порядков самого взыскательного православия», немедленно нюансированное словами о «самой яркой враждебности», а сам рассказанный Тютчевым биографический эпизод предстает его полемическим парафразом. Поразившее Кюстина противоречие обыденности, механичности и в то же время истовости Тютчев переосмысляет как оставшийся скрытым от европейца внутренний принцип «этого мира Византийско-русского, где жизнь и верослужение составляют одно». Более того, тема эта, на наш взгляд, получает непосредственное развитие в тютчевском историософском мемуаре 1845 г., приобретая здесь характер ключевой формулы и окончательного объяснения принципа исторического бытия России, недоступного европейцу: «Но такова подлинная схожесть, такова внутренняя, глубинная общность России с ее славным предком, Восточной империей, что и без исторических изысканий всякий может, положась на свои обыденные и, так сказать, незатейливые впечатления, доверясь одному лишь чутью, понять, какой жизненный принцип, какая могучая душа в течение тысячи лет вдыхали жизнь в хрупкое тело Восточной империи. Этой душой, этим принципом было христианство, христианская религия <...>, соединившаяся или, лучше сказать, отождествившаяся <...> с внутренней жизнью общества» [Тютчев 1992. С. 108]. Несмотря на разительное отличие «образа автора» в тютчевском письме 1843 г. и мемуаре 1845 г. (утонченный европеец среди пирамид и православный философ - Колумб, открывающий «незамеченный» материк) эпизод с Иверской, полемически переосмысливающий соответствующее место у Кюстина, едва ли не есть одно из упомянутых здесь «обыденных и, так сказать, незатейливых впечатлений», позволивших Тютчеву «проникнуть» в существо этого мира (ср. характерную апелляцию к чутью, l'instinct, в обоих пассажах). Весьма характерным для себя способом Тютчев адаптирует энергию и пафос кюстинова описания к собственной, совершенно противоположной по смыслу конструкции, почти так же как позднее будет планировать использовать Фалльмерайера в интересах правильной «постановки» «восточного вопроса» перед европейским общественным мнением или оценивать статьи Киприана Робера («в ненависти этого иностранца заключается не только больше понимания, но и больше симпатии» [Тютчев 1984.]).
Следующий эпизод отношений Погодина и Тютчева, относящийся к июню 1845 г., непосредственно продолжает сюжет предыдущей встречи. Приехав в Москву в конце мая, Тютчев посещает Погодина 9 июня и беседует с ним «о внеш<ней> и внутрен<ней> политике» [ЛН. С. 14]24, а 15 июня привозит ему свой «мемуар», предназначенный для Николая I и развивавший мысль о непрерывном историческом существовании православной Восточной Империи под формой российского государства, определившем провиденциальный смысл исторического бытия России и те неизменные отношения, в которых находится она к Западу [ЛН. С. 14; Тютчев 1992]. Запись об этой встрече в «Дневнике» Погодина не была вполне разобрана публикаторами: упомянув под 15-м июня о визите Тютчева и его «мемуаре», Погодин чуть ниже еще и кратко отрецензировал тютчевскую записку. В рукописи текст выглядит так:
Поутру Тютчев. О Политике. Он привез мне свои мему<а>ры. 1 [14] Вечер<ом> бы<л> Соловьев, которому Строга<нов> велел готовиться к [13] лекциям, след<овательно> не хочет меня. Каков! 3 Оне писаны benevolentiae captande causa. [Вистр.] Говорится о России в отвлечен<ном> смысле. Разбир<ал> книги. [ОР РГБ. Ф. 231/III. 33. 1. Л. 77 об.] Обычным для себя образом Погодин записывает задним числом за несколько дней, не всегда точно и сразу восстанавливая последовательность событий и даты. Выставленные им на полях цифры означают, что первые две строки должны стоять после двух следующих и предшествовать двум последним, в которых таким образом и заключена оценка тютчевской записки. Причем Тютчев привез, по всей видимости, не только мемуар 1845-го г., но и свое письмо к редактору «Allgemeine Zeitung», опубликованное в 1844 г. и содержавшее первый, завуалированный набросок идей мемуара (в архиве Погодина сохранились однотипные писарские копии обоих политических опусов, выполненные на той же бумаге и, несомненно, одним переписчиком25). Несколько неожиданно, на фоне сочувствия и единомыслия 1843-го г., погодинский отзыв о мемуаре категорически неблагоприятен. Едва ли Погодин знал о поощрении, полученном Тютчевым вследствие представления записки Николаю I [Тютчев 1992. С. 90]), но почти несомненно слышал о тех усилиях, которые предпринимал Тютчев зимой 1844-1845 гг. для возвращения на службу, и о том, что они увенчались успехом [Летопись. С. 65-66]. Характерно и то, что в погодинской копии заключительный абзац мемуара не был замаран, как в копии Тургенева [Осповат 1992. С. 90, 113]: идея прямого руководства про-русской пропагандой в Европе вполне вписывалась в предполагаемое русло бесед Тютчева и Погодина 1843-го г. Упрек в конъюнктурности («писаны benevolentiae captande causa» - 'для снискания благоволения') и общая негативная оценка мемуара подразумевают, как представляется, не столько эти практические применения тютчевского мемуара, но - гораздо более широкий идейно-биографический контекст. В отличие от ситуации 1843 г., когда проблема отношений России и Европы рассматривалась в разговорах Тютчева и Погодина, сколь можно судить по скудным свидетельствам, сквозь призму «славянского вопроса», тютчевская идея православной Восточной Империи не нашла отклика у Погодина. Концепция мемуара, согласно которой сразу после падения Константинополя, в правление Ивана III происходит мистическая реинкарнация Восточной Империи под формой Московского государства, определяющая «историческую легитимность» России перед лицом Европы, ее «исторические грамоты», не могла удовлетворить Погодина, как раз в это время готовившего к печати первые три тома своих «Исследований», посвященных древнему периоду русской истории (Исследования, замечания и лекции М. Погодина о Русской Истории изданные Имп. Моск. ОИДР. Т. 1-3. М., 1846). Напротив, именно в этом «древнем периоде» Погодин обнаруживал следы и доказательства общеславянской праистории (изложение «Славянских древностей» Шафарика вошло во 2-й том «Исследований»), а кроме того - подробно разбирал процесс «формации государства»26, занявший, по Погодину, весь период от Рюрика до Ярослава и определивший специфический характер русской истории в сравнении с европейской (знаменитая статья Погодина «Параллель Русской Истории с Историей Западных Европейских Государств, относительно начала» опубликована была в № 1 «Москвитянина» за 1845 г. и вызвала, как известно, принципиальные возражения П. Киреевского; перепечатывая ее в 3-м томе «Исследований» и в сборнике «Историко-критические отрывки», вышедшем в 1846 г., Погодин придал ей статус собственного исторического кредо). Последователь Карамзина, Гизо и Тьерри, Погодин именно в этом процессе «формации государства» видит ключ ко всей национальной истории, ее цивилизационные корни, а в общеславянском национальном складе - предпосылки этого процесса. Соответственно, и политическая формула славянского единства мыслится Погодиным как союз государств, в котором Россия играет роль естественного политического и духовного центра - своеобразного союза монархий наподобие Священной Римской Империи (ср. в «отчете» 1839 г., а также - дневниковую запись сентября 1840 г.: «Мечты о Кор<олевстве> Иллирийском, Чешском, и Империи Всеславянской, при молитве: Господи: владыка живота моего и пр.» - ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 33. П. 1. Л. 6). А в основе этого чаемого политического единства лежит не столько идея Православной Империи, сколько - идея всеславянского национального суверенитета. С другой стороны, и мысли Тютчева, нашедшие отражение в мемуаре, по всей видимости, значительно отличалась от того круга тем и идей, которым он оперировал в 1843 г. Во всяком случае, эту разницу отметил, ознакомившись с текстом мемуара, А. И. Тургенев: «грезы неосновательные и противные прежним его убеждениям - за полтора года» [ОА. С. 326]. Намерение Тютчева «вразумлять Европу на наш счет» [ОА. С. 301], как и его недавние московские впечатления, составляли темы подразумеваемых здесь Тургеневым их парижских бесед в мае-июне 1844 г. и не вызвали тогда у Тургенева никакого отторжения [ЛН. С. 87]. Более того, он весьма высоко оценил тютчевское письмо Кольбу [ЛН. С. 68], а итоговая характеристика: «Тютчев умен, но во многом и с легит<имистами> соглашается» [ЛН. С. 87], - отмечает как раз ту культивированную самостоятельность и неоднозначность позиции, которую отметил в тютчевской оценке Кюстина Варнгаген фон Энзе. В обоих случаях Тютчев балансирует между легитимистской мифологизацией русского «патриархального порядка» и либеральным критицизмом. Главным принципом про-русской пропаганды, сформулированным в мемуаре, напротив, является отказ от частных полемик и попыток европеизированного патриотизма (к которым призывал Тютчева Тургенев: «Ему стоит только писать согласнее с его европейским образом мысли...» [ОА. С. 301]; ср., с другой стороны, в мемуаре: «До сего дня <...> мы за крайне редкими исключениями избирали тон, весьма мало нам подобающий. Мы слишком походили на школяров, пытающихся неуклюжими восхвалениями умилостивить прогневавшегося начальника») и открытое противопоставление европейскому взгляду на Россию «наших исторических грамот» и сознания «принципов своего бытия». Таким образом, в отличие от Кюстина, не нашедшего во время своей поездки никаких подтверждений легитимистского мифа о России (см. в статье В. Мильчиной [Кюстин. 1. С. 387-390]), Тютчев, как бы ревизовав впечатления Кюстина во время своего пребывания в Москве в 1843 г., противополагает кюстиновой эгоцентрической «проницательности» подчеркнуто интуитивистское прозрение «внутреннего принципа» и исторической легитимности «мира византийско-русского», оставшегося недоступным иноплеменнику. Весьма замечательно, что главная мысль тютчевского мемуара о необходимости осознания принципов своего исторического и нравственного бытия самими русскими как главном условии действенности русской пропаганды отчетливо перекликается с фразой Бенкендорфа, якобы сказанной им о Кюстине Николаю I и переданной Тютчевым В. фон Энзе на возвратном пути из России в 1843 г.: «Господин Кюстин только сформулировал те понятия, которые все давно о нас имеют и которые мы сами о себе имеем» [ЛН. С. 460]. Смещение акцентов во взглядах Тютчева и Погодина, произошедшее за два года, характерным образом корреспондирует с биографическими обстоятельствами собеседников. По сравнению с ситуацией 1843 г., в 1845 Тютчев и Погодин как бы меняются местами. Теперь Тютчев показывает Погодину записку, удостоившуюся внимания Государя и способную, как предполагается, повлиять на умы в должном направлении. Более того, если в 1843 г. Тютчев совершал своеобразное паломничество (пусть необходимое) на Родину, в «элизиум» прошлого, то на этот раз он приезжает в Москву после восьмимесячного пребывания в Петербурге, ознаменованного впечатляющими светскими и политическими успехами (ср. этот мотив в петербургских письмах Э. Ф. Тютчевой зимы 1844-1845 гг. [ЛН. С. 210-213] и знаменитую помету Вяземского «Tutscheff est le lion de la saison» [ОА. С. 309]), и в ожидании скорого возвращения на Запад. Напротив того, оппозиционность Погодина по отношению к Петербургу и имперской ипостаси русского национализма очевидно усилена в этот момент биографическими обстоятельствами. С лета 1843 г. Погодин не только узнал о неиспользованности своих политических рассуждений в представленном Императору экстракте отчета 1839 г., но и пережил прохладный прием отчета 1842 г., «оставленного без внимания по тогдашним политическим обстоятельствам» [Погодин 1874. С. 69], отдаление Уварова, чуждавшегося деятельного политического темперамента московского профессора, наконец - конфликт с попечителем Московского учебного округа А. С. Строгановым и уход из университета, уход с поста секретаря ОИДР и фактическую изоляцию «Москвитянина» после возвращения его под свою редакцию. От позы «Московского Гизо», казавшейся почти реальностью летом 1843, к лету 1845 не осталось и следа (ср. характерную запись о заседании ОИДР 6 февраля 1845, утвердившем О. Бодянского секретарем Общества вместо Погодина: «Собрание в Обществе, где несносный Строев говорил грубости, так что я решительно отказался. Гр. Строганов поддержал меня слабо, как большинство Гизо, и Аббат Сиес Бодян<ский> взялся написать конституцию. Комедия!» - ОР РГБ. Ф. 233/I. П. 33. № 1. Л. 68 об). Весьма показательно поэтому, что за два следующих месяца пребывания Тютчева в Москве, в погодинском «Дневнике» не встречается никаких упоминаний о нем. Сам Погодин в это время занят составлением речи, которую намерен произнести при открытии памятника Карамзину в Симбирске. Эта речь, весьма благосклонно воспринятая в литературных кругах, вызвала недовольство лишь тем, что Погодин представил Карамзина периода сочинения и печатания истории как человека, сознательного удалившегося от всякой светскости и других отношений, заключившего себя добровольно в библиотеку и типографию. Формулируя этот упрек, Шевырев проницательно заметил, что в данном случае Погодин изобразил в Карамзине себя. Весь комплекс историко-политических и идейных воззрений Погодина, претерпев очень незначительную внутреннюю эволюцию, начинает между тем выглядеть в этот момент если не оппозиционным, то - во всяком случае - невостребованным, а работа над «Исследованиями» по древней русской истории - своеобразным убежищем Погодина. Совершенно не случайно на этом фоне происходит и актуализация погодинского «москвофильства». Имея в виду «возродить», вернуть в русло первоначального замысла «Москвитянин», Погодин повторяет в конце 1845 г. в объявлении об обновленном «Москвитянине» на 1846 г., что именно Москва (латентно противопоставленная Петербургу) является «средоточием русской истории» и заключает в себе тот ее подлинный характер, к которому должна вернуться Россия по окончании «петербургского периода». Следующие 27 лет отношений Тютчева и Погодина остаются за рамками настоящей статьи, несмотря на то, что это период, пожалуй, наиболее интенсивных и постоянных контактов. Отметим лишь, что перед лицом новой эпохи, начало которой обозначено 1848 г., Тютчев и Погодин в гораздо большей степени ощущают себя людьми одного поколения и одной культуры и, несомненно, принадлежат к одному «идейному» лагерю в идеологических коллизиях 1850-1860-х, однако намеченное нами различие позиций: принципиальное для Тютчева пребывание «вне» Москвы и столь же принципиальное погодинское - «внутри» - остается неизменным и, кажется, вполне сохраняет свое значение.
1 В издании Тютчева, подготовленном К. В. Пигаревым в серии «Литературные памятники» [Тютчев 1965], текст стихотворения воспроизведен достаточно корректно, но и здесь несколько знаков все-таки опущены. По всей видимости, Погодин со товарищи «разбирал стихи Т.» именно по печатной брошюре: по данным «Летописи жизни и творчества Ф. И. Тютчева», подготовленной в Музее Мураново, уже 21 июля Совет университета рассылал «Речи профессоров», произнесенные на акте, вместе с которыми были напечатаны и стихи; близость этой даты и выставленной в погодинском «Дневнике» - еще один аргумент в пользу нашей расшифровки погодинской записи. Назад 2 Ср. запись от 10 ноября 1820 г.: «Говорил с Тютч<евым> о зверях, прив<езенных> в М<оскву>», - прямым комментарием к которой может служить объявление, приложенное к № 89 «Московских ведомостей» от 6 ноября 1820 г. и сообщающее, что «с дозволения начальства будет здесь на короткое время показываемо Большое собрание Отличных живых редких зверей изо всех стран света, которые недавно привезены из Лондона»; зверинец «братьев и сестер Деннебек» расположился в теплом манеже дома кн. Гагарина на Поварской. Скорее всего событие это обсуждалось Тютчевым и Погодиным в контексте темы «провинциальности» Москвы (о чем см. ниже). Назад 3 Редактировавший погодинскую автобиографию для «Биографического словаря профессоров ... Московского университета» С. П. Шевырев, видимо, счел в 1855 г. неуместной подобную характеристику знаменитого уже поэта и политического публициста и снял ее (ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 51. П. 1. Л. 6). Любопытно, что именно в период самого раннего знакомства с Тютчевым у Погодина возникает желание самому вступить на стезю поэзии. Ср. в «Дневнике» за 28 июля 1820 г.: «- Если бы мне другое воспитание, еще меньшее, если бы на осьмом году попались мне вместо романов стихи, думаю я бы<л> бы стихотворцем» ([Дневник I. Л. 6]; оговорка о «воспитании, еще меньшем» очень характерна и передает тот привкус «аристократической забавы», который ощущается Погодиным в современном стихотворстве). Назад 4 В более поздней записи, предаваясь фантазиям о «выигрыше имения» и заведении на доходы от него училища, Погодин также мечтает, что Мерзляков будет преподавать там и «переведет Георгики» [Дневник I. Л. 125 об].Назад 5 С защитой Мерзлякова и его места в современной поэзии, видимо, связана и еще одна запись, сделанная Погодиным вскоре после этого разговора - 19 января 1821: «- Чит<ал> Сына Отечества. Написать бы возражение против Рецензии Рус<ских> Жур<налов> в нем напечатан<ной>» [Дневник I. Л. 57]. В обозрении русских журналов (Сын Отечества. 1821. № 1), в частности, критически упоминались переводы Мерзлякова из «Освобожденного Иерусалима», печатавшиеся в «Вестнике Европы», и можно предположить, что именно эти высокомерные характеристики стали главным раздражителем для Погодина. Отстаивание Мерзлякова перед петербургскими «литературными аристократами» останется существенным элементом его литературного кредо на многие годы. При этом проявившееся уже в разговоре с Кубаревым противоречие (надежда на Мерзлякова как на создателя русского гекзаметра, вопреки его собственной позиции) отмечалось впоследствии оппонентами Погодина (см. полемическую заметку Дельвига в «Литературной газете» в 1830 г. - Дельвиг А. И. Сочинения / Сост., вст. ст. и комм. В. Э. Вацуро. Л., 1986. С. 220-221). Назад 6 В ЛН и более ранних публикациях приводится лишь первая часть записи: «Заходил к Тютчеву ~ Вот эта работа по нем». Прямой отзыв о переводе «Георгик» Раича см. также в записи от 15 октября 1822: «<...> - разбирали <с Кубаревым. - К. Р.> Фонтенеля, перевод Раичев Георгик - какие отступления грешныя - <...>» [Дневник II. Л. 42]. Назад
7 Речь идет, по всей видимости, об издании «Grammaire italienne simplifi 8 В нашей статье, посвященной раичевскому обществу, мы отвергаем бытующее в научной литературе название «Общество друзей», восходящее к фразе из письма Погодина к А. Н. Голицыной [Рогов. С. 545. Прим. 1]. Вместе с тем культ дружбы как поэтического и интеллектуального со-чувствия очень характерен для Раича (ср. его известное позднейшее описание своих отношений с Тютчевым или «кружковое» предисловие к «Новым Аонидам»). Вполне вероятно, что выражение «общество друзей», не утвердившееся в качестве названия, бытовало в виде речевой формулы, отразившись, в частности, и в посвящении тютчевского послания «друзьям». С другой стороны, на особую роль отсутствующего Тютчева в раичевском кружке 1822-1825 гг. указывают, на наш взгляд, как использование фрагмента его неопубликованного стихотворения 1821 г. («Нет веры к вымыслам чудесным...») в сочинении Д. Ознобишина об искусствах, опубликованном в «Северной Лире», так и упоминание Тютчева среди «подающих прекрасную надежду» поэтов в «Обозрении российской словесности» Н. Полевого (Московский Телеграф. 1825. № 1. С. 86). Пять юношеских стихотворений, последнее из которых появилось в печати более двух лет назад, совершенно не объясняют такого отзыва; однако, если учесть, что осенью 1824 г. Полевой - регулярный посетитель раичевых собраний, на которых и был читан первый вариант его программного «Обозрения» [Рогов. С. 537, 568], то контекст подобной оценки становится вполне понятен. Пользуясь случаем, укажем здесь на факт, подкрепляющий наше предположение о том, что одним из шести членов раннего раичевского общества, образовавшегося летом 1822 в Осташово, был М. П. Вронченко [Рогов. С. 548. Прим. 22]. Автограф опубликованного В. Э. Вацуро перевода Вронченко элегии Ламартина «Озеро» имеет помету «Ост. 1822. Май» [Французская элегия. С. 660], которую, несомненно, следует читать как «Ост<ашово>» и т.д. Назад 9 Запись о разговоре Тютчева, Погодина и Александры Трубецкой в июне 1825 г. цитируется обычно не полностью, между тем окончание ее позволяет восстановить некоторые детали рассказа Тютчева о Мюнхене: «Гов<орил> он об обществах: в Мюнхене общ<ество> малочисл<енное>, - придворные и пр. [Она стала] Et la bourgeoisie reste а cote, сказала она. О Магнаты! Я думаю, а теперь уверен, что у них есть что то в крови неприязненное с [ср] друг<ими> классами. - Так и должно быть по законам физическим. -» [Дневник II. Л. 123] Как можно понять, замечание Тютчева о заметной роли, которую играет в мюнхенском обществе буржуазия, вызвало высокомерную реплику юной представительницы барской Москвы, а раздражение Погодина было подготовлено всем ходом светской беседы и оттенком аристократического высокомерия, который определяет его впечатления от Тютчева. Назад 10 «Письмо Издателя О. З. к Редактору, из Москвы, от 19 Октября 1825»: «Московский горизонт осветится скоро лучами новой Кометы: под сим именем Г. Пагодин намерен выпустить в свет Альманах в роде нашей Полярной Звезды, и судя по дарованиям Издателя и уважению, коим он пользуется между Литераторами, должно надеяться, что он сделает сим публике прекрасный подарок к Новому году» (Отечественные Записки. 1825. Ч. 24. № 61. С. 306; орфография источника). Назад 11 См. также: ОР РГБ. Ф. 231/I. П. 40. № 4. Назад 12 Один из ключевых образов историософской символики. Назад 13 [Речи, отчет и стихи, произнесенные в торжественном собрании Имп. Моск. Университета 6 июля 1817 г.] М., 1817; [Речи, отчет и стихи, произнесенные в торжественном собрании Имп. Моск. Университета 5 июля 1819 г.] М., 1819; авторство Мерзлякова в отношении второго (неподписанного) текста указано в «Краткой истории Московского Университета с 4 Июля 1819 года по 6 Июля 1820» ([Речи, отчет и стихи] М., 1820). Назад 14 Тютчев прибыл в Москву 8 июля (см. его письмо Э. Ф. Тютчевой от 26 июля 1843 г. [Тютчев 1984. Т. 2. С. 84]), в записке же Шевырева из с. Вяземы в Москву упоминается, что письмо Погодина, в котором, видимо, и сообщалось о встрече с Тютчевым, до него шло долго, т.е. первую встречу (встречи) Погодина и Тютчева следует датировать приблизительно 9-16 июля. Назад 15 В. Ганка, с которым Погодин встречался во время заграничного путешествия летом 1842 г., охотно показывал тютчевскую стихотворную запись в своем альбоме, а О. Бодянский даже цитировал послание Тютчева «К Ганке» в своей первой университетской лекции в Москве осенью 1842 [Досталь. С. 297]. Назад 16 Сам факт встречи Тютчева с Шевыревым, учитывая приведенную нами выше последнюю фразу письма последнего к Погодину, остается под вопросом; конспектируя свой разговор с Тютчевым о его московских впечатлениях, А. И. Тургенев упомянул Чаадаева, тютчевское бонмо по поводу которого не оставляет сомнений в том, что они встречались, и Хомякова [ЛН. С. 87]. Назад 17 Такие контакты и выполнение деликатного поручения министерства в отношении Ганки и Шафарика были главной целью поездки 1839 г. (см.: Барсуков. Т. 5. С. 203-205, а также дело «О передаче неофициальным порядком через Погодина пособия в 2000 руб. чешским ученым Шафарику и Ганке» [РГИА. Ф. 735. Оп. 2. Д. 60. Л. 21-22 31-32 об]). Назад 18 Ср.: «Кто внимательно изучал Историю, тот знает..., что такое движение бывает только пред великими явлениями в Истории гражданских обществ »; «Прибавлю от себя как историк, бывают счастливые минуты для государств, когда все обстоятельства стекаются в их пользу, и когда им стоит только пожелать, чтоб распространить свою власть как угодно. Такая минута была у Польши при Сигизмунде III < > После Польши черед доходил до Швеции, начиная от Густава Адольфа до Карла XII < > Не такая ли минута представляется теперь Императору Николаю, к которому обе Империи, Турецкая и Австрийская, как будто наперерыв просятся в руку?» [Погодин 1874. С. 20-21]. Назад 19 Значению писем Тютчева для понимания его «поэтической онтологии» и, в частности, устойчивому для них мотиву «страха пространства» посвящена пионерская статья Б. М. Эйхенбаума 1916 г. [Эйхенбаум]. В развивающей ее идеи статье Ю. М. Лотмана отмечены и эмфатическая противопоставленность вертикально и горизонтально («равнина») организованного пространства, и связь «бесформенного» равнинного пространства с темой небытия; наконец, в оппозиции «Север-Юг» Лотман также видит вариацию противопоставления «бытие-небытие», отмечая устойчивую связь «Севера» с мотивами «сна», «мертвенности» и т.п. [Лотман. С. 122-125]. Назад 20 В письмах Э. Ф. Тютчевой к К. Пфеффелю 1844 г. - это почти устойчивая формула: «хотя он уже почти примирился со своим возвращением в Россию»; «Тютчев тоже вполне примирился со своей родиной, и было бы неблагодарностью по-прежнему ее ненавидеть, так как его тут любят и ценят больше, чем где бы то ни было» [ЛН. С. 211]. Назад 21 Эйхенбаум в упомянутой статье разбирает сходный биографический эпизод тютчевского визионерства при посещении колокольни Ивана Великого 8 сентября 1855 г.: «... Тютчев знает совершенно особенное состояние, когда настоящее воспринимается им непосредственно как прошлое. Это - истинно пророческое состояние: не просто предвидеть будущее, но совсем на мгновение выйти из пределов времени и потому видеть его как бы со стороны» [Эйхенбаум. С. 53]. Назад 22 Многослойность тютчевского отношения к книге Кюстина не раз отмечалась исследователями [Пигарев. С. 117 и др.]; Ю. Н. Тынянов проницательно отметил «кюстиновский» взгляд некоторых пассажей тютчевских писем (правда, более поздних), обсуждая концептуальную двойственность его отношения к России в целом [Тынянов. С. 351-352]; наконец, в специальной статье, посвященной теме «Тютчев и Кюстин», в качестве заключительного аккорда полемики с «Россией в 1839 году» рассматривается стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья...», при этом, по мысли автора, первая строфа стихотворения является как бы резюме соответствующих «дорожных» впечатлений Кюстина ('бедные селенья - скудная природа - долготерпенье') [Воропаева: особ. С. 107-109]. Назад 23 Собственно отрывок письма 1855 г., разбираемый Эйхенбаумом, выглядит близким к тексту пересказом приведенных цитат из Кюстина: «И вся эта сцена предстала мне, как видение из прошлого, далекого прошлого, и люди, двигавшиеся кругом меня, казались давно исчезнувшими с лица земли < >». Назад 24 Возможно, Тютчев и Погодин виделись первый раз в воскресенье, 3 июня на даче у М. А. Дмитриева [ЛН. С. 214]. Назад 25 ОР РГБ. Ф. 231/III. К. 17. П. 41-42. Мы склонны читать погодинскую запись как «оне писаны» и, соответственно, исправлять в опубликованном ее фрагменте «свой мемуар» на «свои мемуары» (что вполне позволяют палеографические данные); возможно, Погодин мысленно переводит «мемуар» как «записка», однако в «Дневнике» встречаются и другие случаи некорректного употребления «оне»: так, в известной записи Погодина о Тютчевых от 25 октября 1820 г. [ЛН. С. 12] отчетливо читается в подлиннике: «Оне едут в Дерпт» (на эту параллель наше внимание обратила Т. Г. Динесман). Назад 26 Статья под названием «Формация государства» с датой 1837 г. открывала сборник «Историко-критические отрывки», изданный Погодиным в 1846 г. и вобравший его «концептуальные» исторические работы. Назад
Аксаков: Аксаков И. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. Барсуков I-XXII: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888-1906. Кн. 1-22. Благой: Из материалов о Ф. И. Тютчеве / Сообщил Д. Благой // Красный архив. М.; Пг., 1923. Т. IV. С. 386-391. Веневитинов: Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза / Изд. подготовили Е. А. Маймин, М. А. Чернышев. М.: Наука, 1980. Воропаева: Воропаева Е. Тютчев и Астольф де Кюстин // Вопросы литературы. 1989. № 2. Дневник I: Дневник М. П. Погодина. 1820-1822 // ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 30. № 1. Дневник II: Дневник М. П. Погодина. 1822-1825 // ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 31. № 1. Дневник III: Дневник М. П. Погодина. 1840-1845 // ОР РГБ. Ф. 231/I. К. 33. № 1. Досталь: Досталь М. Ю. Первая лекция О. М. Бодянского в Московском университете: Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М.,1986. Казанович: Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева (1840-е гг.) // Урания. Тютчевский альманах. 1803-1928 / Ред. Е. П. Казанович. Л., 1928. Королева: Королева Н. В. Тютчев и Пушкин // Пушкин. Исследования и материалы. Т. IV. М.; Л., 1962. Кюстин: Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Под общ. ред. В. А. Мильчиной. М., 1996. Т. 1-2. Летопись: Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М., 1999. Т. 1. ЛН: Тютчев в дневнике и воспоминаниях М. П. Погодина / Вст. ст., публ. и комм. Л. Н. Кузиной // Литературное Наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. С. 7-27. Лотман: Лотман Ю. М. Поэтический мир Тютчева // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. Мильчина, Осповат: Мильчина В. А., Осповат А. Л. Маркиз де Кюстин и его первые русские читатели (Из неизданных материалов 1830-1840-х годов) // Новое литературное обозрение. № 8 (1994). Осповат 1987: Осповат А. Л. Тютчев о Ломоносове (К стихотворению «Он, умирая, сомневался...») // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 781. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1987. Осповат 1990: Осповат А. Л. Тютчев и Пушкин: история литературных отношений // Тыняновский сб. Четвертые тыняновские чтения. Рига, 1990. Осповат 1994: Осповат А. Л. Тютчев и заграничная служба III Отделения (Материалы к теме) // Тыняновский сборник. Пятые тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 110-138. ОА: Остафьевский архив Кн. Вяземских. СПб., 1899. Т. IV. Пигарев: Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. Письма к Дмитриеву: Письма разных лиц к И. И. Дмитриеву. М., 1867. Погодин 1866: Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. М., 1866. Ч. I-II. Погодин 1872: Погодин М. П. В память о Павле Александровиче Муханове // Русская Старина. 1872. № 2. Погодин 1874: Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. 1853-1856. М., 1874. Речи, отчет и стихи: [Речи, отчет и стихи, произнесенные в торжественном собрании Имп. Моск. Университета 6 июля 1820 г.] М., 1820. Рогов: Рогов К. Ю. К истории «московского романтизма»: кружок и общество С. Е. Раича // Лотмановский сборник. 2. М., 1997. Тынянов: Тынянов Ю. Н. Тютчев и Гейне // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Тютчев 1914: Lettres de Th. J. Tjutscheff Тютчев 1965: Тютчев Ф. И. Лирика / Изд. подготовил К. В. Пигарев. М., 1965. Т. I-II. Тютчев 1984: Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. / Сост. К. В. Пигарев и Л. Н. Кузина. М., 1984. Т. 1-2. Тютчев 1992: Осповат А. Л. Новонайденный меморандум Тютчева: К истории создания / Тютчев Ф. И. [Докладная записка Императору Николаю I] 1845 г. // Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 89-115. Французская элегия: Французская элегия XVIII-XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры. М.,1989. Эйхенбаум: Эйхенбаум Б. М. Письма Тютчева // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Сб. ст. Л., 1924. Чулков: Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933. * Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 68-106. назад © Кирилл Рогов, 1999 |
 mon), Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо <...> - Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? - О препятствиях у нас к просвещению...» (ЛН. С. 10; заметим, что за традиционной купюрой скрываются пространные рассуждения Погодина о нелепости и опасности отрицания божественности
Иисуса Христа. «Я не понимаю, каким образом такие умные, ученые люди, люди желавшие счастия себе подобным, как Руссо, Виланд и пр. решались обнародовать и разпространять свои сомнения на этот счет» [Дневник I. Л. 10 об.]).
mon), Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо <...> - Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? - О препятствиях у нас к просвещению...» (ЛН. С. 10; заметим, что за традиционной купюрой скрываются пространные рассуждения Погодина о нелепости и опасности отрицания божественности
Иисуса Христа. «Я не понимаю, каким образом такие умные, ученые люди, люди желавшие счастия себе подобным, как Руссо, Виланд и пр. решались обнародовать и разпространять свои сомнения на этот счет» [Дневник I. Л. 10 об.]).
 ant qui avait conscience de lui m
ant qui avait conscience de lui m me). А тема «пугающей», «отвратительной» равнины, в которую «погружается» Тютчев на пути в Россию, окончательно превращает поездку на родину в путешествие в загробный мир (ср.: «Краков тебе понравился бы. Это достойный брат Праги, но это не более как прекрасный покойник. В то же время это последний живописный ландшафт, какой видит путешественник, направляющийся к Востоку. Ибо едва выедешь за ворота этого города, как попадаешь на необъятную равнину, скифскую равнину, которая так часто поражала (choqu
me). А тема «пугающей», «отвратительной» равнины, в которую «погружается» Тютчев на пути в Россию, окончательно превращает поездку на родину в путешествие в загробный мир (ср.: «Краков тебе понравился бы. Это достойный брат Праги, но это не более как прекрасный покойник. В то же время это последний живописный ландшафт, какой видит путешественник, направляющийся к Востоку. Ибо едва выедешь за ворота этого города, как попадаешь на необъятную равнину, скифскую равнину, которая так часто поражала (choqu 24 le
24 le ons par m-r F.Valerio» (M., 1822), о выходе которого упоминается в объявлении «Вестника Европы» (1822. № 8), а также в заметке П. А. Вяземского (Сын Отечества. 1822. № 29), содействовавшего автору в распространении книги (см. письмо Вяземского А. Тургеневу - Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. II. С. 254).
ons par m-r F.Valerio» (M., 1822), о выходе которого упоминается в объявлении «Вестника Европы» (1822. № 8), а также в заметке П. А. Вяземского (Сын Отечества. 1822. № 29), содействовавшего автору в распространении книги (см. письмо Вяземского А. Тургеневу - Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. II. С. 254).