 |
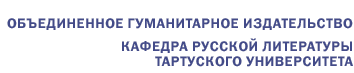 |
|
ФЕДОР ФЕДОРОВ Как известно, творчество раннего Пушкина - точка пересечения различных художественных языков, прежде всего рококо и классицизма. Тем интереснее суждение зрелого Пушкина относительно Жуковского. Когда в 1825 г. Вяземский написал: "В Пушкине нет ничего Жуковского, но между тем Пушкин есть следствие Жуковского"1, Пушкин ему ответил: "...ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его..."2. В связи с "несоответствием" поэтической практики и позднего высказывания особый интерес представляет вопрос о тексте Жуковского в пушкинском тексте 1810-х гг. Присутствие Жуковского очевидно во многих произведениях Пушкина, но принципиальное значение имеют: 1) "Воспоминания в Царском Селе" - 1814; 2) "К Жуковскому" ("Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени...") - 1816; 3) "Жуковскому" ("Когда, к мечтательному миру...") и "К портрету Жуковского" - 1818; 4) четвертая песнь "Руслана и Людмилы". Это вехи пушкинской рецепции Жуковского. Прежде, чем обратиться к стихотворениям 1818 г., необходимо сказать о стихотворениях предшествующих3. Подобно классицистам прежних столетий (XVII-XVIII века), Пушкин в "Воспоминаниях в Царском Селе" строит грандиозный героическо-абсолютистский космос, в котором есть мир прошлого ("громкий век", "времена златые"), являющийся прецедентом, и новый век (нашествие Наполеона и победа: "В Париже росс!"), всецело укладывающийся в рамки прецедента, что и определяет его величие. Если моделью государственности является Россия времен Екатерины, то моделью искусства, языковой моделью являются песнопения Державина и Петрова: "Державин и Петров героям песнь бряцали / Струнами громозвучных лир". "Воспоминания в Царском Селе" с их "монументальным видением России"4 есть не что иное, как стихотворение с классическими одическими моделями, как семантическими, так и языковыми, с античными мифологическими вкраплениями, с аллегорико-символическими персонификациями, с риторическими конструкциями, с лексической архаикой и т.д. Под влиянием работ В. В. Виноградова и Б. В. Томашевского5 "Воспоминания в Царском Селе" нередко возводятся к Батюшкову, прежде всего к стихотворению "На развалинах замка в Швеции" (1814)6. Строфика, в некотором смысле метрика и "фразеология" действительно свидетельствуют о батюшковском начале в тексте Пушкина, но только не начальный топос (I строфа).
На своде дремлющих небес; В безмолвной тишине почили дол и рощи, В седом тумане дальний лес; Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, И тихая луна, как лебедь величавый, Плывет в сребристых облаках. Нетрудно увидеть, что у Пушкина содержится весь реестр знаков-констант элегического топоса Жуковского, в классическом варианте построенного в "Вечере": ночь, тишина, "дол и рощи", туман, ручей, "тихая луна", даже "ветерок, уснувший на листах" (из топоса Жуковского выпадает лишь архаическое "нощи" и эпитет "угрюмой", видимо, заимствованный у Батюшкова). Подобный макрокосм раннеромантического толка сохранится у Пушкина до конца 1820-х годов, вплоть до "Евгения Онегина" и "Полтавы". Как и у Жуковского, созерцание универсума трансформируется в "Воспоминаниях..." в самосозерцание, благодаря чему включается механизм памяти (Жуковский: "К протекшим временам лечу воспоминаньем..."; Пушкин: "Здесь каждый шаг в душе рождает / Воспоминанья прежних лет..."). Бинарная оппозиция Мнемозина, память - Лета, забвенье - одна из ключевых оппозиций в романтической картине мира, проявляющая, в свою очередь, целую систему иных фундаментальных оппозиций, в частности, вечность - время (в том числе бессмертие - смерть). Память, по Жуковскому, как и с точки зрения романтиков, - это преодоление времени, смерти, обретение бессмертия; память бесконечна и вечна. Воспоминания, в свою очередь, пробуждают вдохновение, и тварный человек становится творцом, демиургом ("На все земное наводило / Животворящий луч оно - / И для меня в то время было / Жизнь и Поэзия одно"). Воспоминания у Пушкина иные, чем у Жуковского, но и они порождают тот духовный подъем ("И в тихом восхищенье дух"), результатом которого и является песнопение в честь России. Что же касается батюшковского стихотворения "На развалинах замка в Швеции", то оно содержит некоторые из тех образов, что и элегия Жуковского: ночь - тишина ("безмолвие ночное") - луна - наконец, воспоминание как результат созерцания. Но есть еще два важнейших атрибута: море и развалины замка на берегу. Развалины же замка, будучи семантическим центром стихотворения, не только утверждают мысль о гибельности мира, о трагизме жизни и истории, но и меняют функцию других атрибутов-явлений, которые обретают совсем не "жуковскую" семантику. "Ночное безмолвие", например, - не тишина, не покой Божьего мира, как у Жуковского, а безмолвие разрушения, смерти. И воспоминание - не построение нормативного мира, а погружение в погибшее прошлое. Ночное пространство Батюшкова - не раннеромантическое, как у Жуковского, а предромантическое, восходящее к Оссиану. По сути дела, ночные топосы Жуковского и Пушкина и ночной топос Батюшкова при определенной близости атрибутики противостоят друг другу как топосы различных культур. Первая строфа "Воспоминаний...", может быть, более всего свидетельствует о контакте пушкинской картины мира и картины мира Жуковского. Но нельзя не признать, что это едва ли не единственное свидетельство освоения юным Пушкиным элегического миросозерцания Жуковского. Если первая строфа апеллирует к элегическому миру Жуковского, то последняя обращена к Жуковскому - автору "Певца во стане русских воинов". И здесь существенны два аспекта, впрочем, тесно связанных. Во-первых, в основу стихотворения Пушкин положил концепцию, которая ярко была изложена Жуковским в "Певце..." и которая восходит как к древней, античной и славянской, так и к современной, оссиановской, традиции7. Герой неотделим от певца, они образуют нерасторжимое единство; герой, провоцируя творческий акт, определяет бессмертие поэта, но и поэт, воспевший подвиг, определяет бессмертие героя. Двуединство герой - поэт преодолевает время и обретает вечную жизнь. Во-вторых, финальное славословие Жуковского есть славословие его как певца 1812 г., как певца, выполнившего ту функцию, которую в прецедентном мире Екатерины выполняли Державин и Петров. Жуковский в "Воспоминаниях в Царском Селе" явлен в двух ипостасях: как поэт романтического макрокосма (I строфа) и как поэт гражданской героики, бард, "скальд России вдохновенный", современный Державин и Петров (последняя строфа), и вторая ипостась для Пушкина является определяющей. В принадлежности к ряду Державина и Петрова Пушкин видит значение Жуковского как поэта, в этом же он видит и собственную функцию. Таков первый образ Жуковского, сложившийся в сознании Пушкина, своего рода миф, культурный символ. В послании 1816 г. Жуковский утверждается как глава "арзамасского братства" и центральная личность на современном российском Парнасе. Одной из главных тем стихотворения, наряду с темой самосознания Пушкина как поэта, является тема посвящения, инициации, при этом инициации двойной, с одной стороны, Жуковский от имени и по поручению "жрецов" (Карамзина, Дмитриева и Державина) возводит поэта на Парнас, с другой же стороны, принимает в "арзамасское братство" (Арзамас тождествен Парнасу). И все послание - это своего рода вступительная речь в Арзамас, только не буффонная, а торжественная, это демонстрация арзамасской программы, поэтому она и является насквозь цитатной8. Но, демонстрируя корпоративную преданность, Пушкин обращается к Жуковскому не на его индивидуальном языке, а на языке классицизма, при этом классицистическое начало в послании выражено более последовательно, чем в "Воспоминаниях в Царском Селе". Пушкинское стихотворение создано по канону классицистического послания торжественного толка. Если учесть, что послание создавалось как программное стихотворение для задуманного сборника стихов, то становится совершенно очевидным, что Пушкин в 1816 г. осознает Жуковского как центральную личность в русской поэтической культуре, и эта "центральность" связывается с Арзамасом, с той ролью, которую Жуковский играет в Арзамасе. Жуковский как воплощение, как знак Арзамаса - это второй мифообраз Жуковского в пушкинском сознании. В послелицейский период пушкинский классицизм, как известно, обрел новую питательную почву - декабристскую идеологию, с которой Пушкин познакомился благодаря Н. И. Тургеневу и другим членам формирующегося Союза Благоденствия9. Только теперь это классицизм, в отличие от "Воспоминаний в Царском Селе", генетически связанный с классицизмом просветительской ориентации, русским и французским, главной категорией которого была свобода, вольность.
Тем не менее в конце 1810-х годов углубляются и творческие отношения Пушкина с Жуковским. В 1818 г. выходит в свет сборник стихотворений Жуковского "F
Вниманьем сладким упоенный, На свиток гения склоненный, Читает повесть древних лет. Он духом там - в дыму столетий!* Вяземский, соглашаясь с высокой оценкой стихотворения, целый пассаж посвящает словосочетанию "в дыму столетий": ""В дыму столетий"! Это выражение - город: я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестия! Надобно нам посадить его в желтый дом: не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы "дыма столетий"? О прочих и говорить нечего"12. Послание Жуковскому 1818 г. существенно отличается от послания двухлетней давности, и прежде всего развернутой системой реминисценций поэзии Жуковского. В основе стихотворения в качестве его семантических опор находятся важнейшие для романтизма бинарные оппозиции: 1) "сей мир" (конечное) - "мечтательный мир" (высший мир бесконечного); 2) толпа ("завистливые судьи", "сбиратели убогих / Чужих суждений и вестей") - "немногие" (строгие "друзья таланта", "священной истины друзья"). "Быстрый холод вдохновенья" и является инструментом миротворческого акта, инструментом построения "мечтательного мира"; но при этом и "мечтательный мир", и вдохновенье почву имеют в "возвышенной душе". В окончательной редакции послание завершается подлинной "апофеозой" немногих - и творцов, и почитателей:
Не все родились для венцов. Блажен, кто знает сладострастье Высоких мыслей и стихов! Кто наслаждение прекрасным В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел Апология "немногих", избранных, прозвучавшая у Пушкина в связи с книгой Жуковского, столь полемически названной, принципиально важна и в связи с адресатом поэзии, и в связи с ее сущностью. Просветительская Франция, как и ее русские последователи типа Н. И. Тургенева, видела в поэзии прежде всего инструмент преобразования общества, орудие идеологической и политической борьбы; служащая "отечеству", поэзия и должна быть обращена к "отечеству". "Тебя, отечество святое, / Тебя любить, тебе служить - / Вот наше звание прямое!" - восклицал в 1802 г. Андрей Тургенев, старший брат Н. И. Тургенева. "Да будет же перо в руках писателя, - говорил в 1821 г. Гнедич, - то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен. Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. <...> Да будет же первой страстию, нас одушевляющей, вдохновением нашего ума и сердца - любовь к человечеству..."13. Естественно, гражданская лирика была альтернативна лирике романтической, в особенности элегической, как и любовным песнопениям, т.е. сугубо интимной душевной сфере, и концепция "немногих" не могла быть приемлема гражданской эстетикой как додекабристского, так и декабристского типа **, и не только в сфере "содержательной", но иногда и языковой. И если Рылеев, говоря о "безусловной пагубности" влияния Жуковского на "дух" русской словесности, "растлившего многих" и "много зла наделавшего", склонен тем не менее признавать его "решительное влияние на стихотворный слог", на "язык наш"14, то Кюхельбекер гораздо более радикален: "Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie"15. И в этом плане знаменитый манифест Рылеева "Я не поэт, а Гражданин" был крайним проявлением гражданских приоритетов в искусстве. И до послания "Жуковскому" - в "Вольности" (1817), и после послания - в "Деревне" (1819) Пушкин декларирует необходимость поэзии гражданской в противовес интимной, любовной: "Беги, сокройся от очей, / Цитеры слабая царица! / Где ты, где ты, гроза царей, / Свободы гордая певица? / Приди, сорви с меня венок, / Разбей изнеженную лиру... / Хочу воспеть Свободу миру, / На тронах поразить порок" ("Вольность"). Для автора "Вольности" и "Деревни" категория гражданственности и народности не могла быть малозначащей категорией, но в послании к Жуковскому он склонился на сторону Жуковского, то есть на сторону поэзии, не ограниченной подсобно-утилитарными, хотя и гражданского толка, функциями. Стихотворение 1818 г. - это отправная точка той позиции, которая в окончательном виде оформилась в начале 1825 г., в письме к тому же Жуковскому: "Цель поэзии - поэзия..." И далее как аргумент против альтернативной позиции: "Думы Рылеева и целят, а все невпопад"16. В некотором смысле Жуковский явился для Пушкина 1818 г. противовесом Н. И. Тургеневу в понимании сущности и назначения поэзии.
Если же судить о пушкинской позиции в целом, то в пределах системы текстов, созданных в 1818 г., она продолжала оставаться двойственной, и за посланием "Жуковскому" последовали "Сказки. No Не менее, чем семантический план, существен в послании 1818 г. и план структурно-языковой. Система ценностей, прокламируемых Пушкиным, провозглашается не в "старом", архаическом слоге, а в слоге "новом". Примечательно, что в стихотворении всего лишь четыре архаизма ("Власы подъемлет на челе"; "Блажен, кто знает сладострастье / Высоких мыслей и стихов"; три архаизма, употребленных в одном стихе, имеют функциональное задание, как утверждение "высокости" вдохновения) и четыре случая употребления столь излюбленного архаистами обратного порядка слов ("Не для сбирателей убогих"; "для друзей таланта строгих, / Священной истины друзей"; "Восторгом пламенным и ясным"); но нельзя не отметить, что обратный порядок слов не имеет столь диссонансного характера, какой он имел, с позиций современной языковой культуры, в словесности XVIII века; в некотором смысле он введен в контекст той литературной культуры, которая главным принципом объявила естественность. К 1818 г. относится один из пушкинских шедевров 1810-х годов - стихотворение "К портрету Жуковского". Несколько раз перепечатывая стихотворение, Пушкин бесспорно выделял его из ранней лирики как имеющее безусловное значение. Поводом для создания стихотворения был знаменитый портрет Жуковского работы Кипренского (1816).
Пройдет веков завистливую даль, И, внемля им, вздохнет о славе младость, Утешится безмолвная печаль И резвая задумается радость. Суть стихотворения не только / не столько в высочайшей оценке лирики Жуковского. Если Кипренский создал портрет поэта-романтика, то Пушкин создает портрет "стихов" Жуковского, их философии, их структуры. Стихотворение кладет начало многочисленным портретам современников ("К портрету Вяземского", "Ф. Н. Глинке", "Козлову" и т.д.), в которых с беспримерной краткостью и глубиной демонстрируется суть характера и творчества портретируемого. Наконец, "К портрету Жуковского" - это едва ли не первое стихотворение Пушкина, структурно близкое его лирике 1820-х годов, ее открывающее. "Лица необщее выраженье" поэзии Жуковского заключено, по Пушкину, в "пленительной сладости". "Сладость" - одно из ключевых слов лирического лексикона Жуковского, более того, "один из признаков стиля элегического, или психологического романтизма 1800-1820-х годов", создателем которого и явился Жуковский. По словам Г. А. Гуковского, "в системе Жуковского, будучи перенесен с определяемого на субъекта речи, определяя не столько предмет описания, сколько описывающее сознание, этот эпитет получил возможность связей с любым почти предметом и действием, попавшим в орбиту осознания духа. Он стал обозначать всякое положительное отношение к миру, ибо его емкость, неопределенность выделяла в нем оценочную тональность за счет определенных эмоций. Любовь, умиление, восторг, наслаждение красотой, покоем, чувство счастья и многое другое выражалось в этом эпитете, и он прилагался ко всему включенному в образные комплексы, выражавшие эти состояния"17. Тем самым "сладость" является не только "признаком стиля", но и признаком сознания, мироощущения. Говоря о семантическом ореоле "сладости" у Жуковского, нельзя не сказать и о том религиозном, православном чувстве, которое связано с актом откровения, с созерцанием Предвечного. Короче говоря, "сладость" - в полном соответствии с пушкинским утверждением - один из важнейших знаков Жуковского, одна из важнейших индивидуальных его эмблем. Но Пушкин указывает не только на феномен "сладости", но и на его функцию, его воздействие на современников и потомков, "сладость" охарактеризована как "пленительная", т.е. берущая в плен очарованием, совершенством и т.д., вызывающая восторг, радость, любовь, мистико-религиозное чувство. Но дело даже не в очевидной семантике, а в речевой структуре, реконструирующей речевую структуру Жуковского, поэта эпитетов, поэта, определяющего любую субстанциональность с точки зрения качества, причем качества не столько внешнего, сколько внутреннего ("Сельское кладбище": "Усталый селянин медлительной стопою / Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой"). Но "пленительная сладость" - это не только "сладость" внутреннего, духовного, но и "сладость" звучания, "сладость" поэтической магии; магия текста, его звучащая гармония. Пушкин строит текст, сутью которого является гармония, симметрия, ритмическое, звуковое равновесие. Прежде всего это касается первых двух стихов, в которых, с одной стороны, утверждается суть лирики Жуковского ("пленительная сладость"), а с другой стороны, ее посмертная судьба ("Пройдет веков завистливую даль"), два первых стиха симметричны, даже тождественны друг другу на метрическом уровне (в 5-стопном ямбе пропуск схемного ударения приходится на 4-ю стопу):

Симметричны они и на уровне гласных фонем, находящихся в сильной позиции:
о о и а Более того, гармония первых двух стихов предельно актуализирована за счет внутренней рифмы ("стихов" - "веков"), приходящейся на четвертый слог, а также благодаря симметричному положению в них качественного слова ("пленительная" - "завистливую"): 3 и 4 стопы. Первые два стиха не только создают звуковой и зрительный образ гармонии, но и становятся своего рода камертоном для всего стихотворения. Три последних стиха и звучат, и смотрятся на фоне первых двух стихов. Но чрезвычайно важно, что гармония пушкинского текста в целом, в данном случае стихотворения "К портрету Жуковского", строится не благодаря проходящему через весь текст повтору одинаковых структур, а благодаря гармоническому соединению различных, даже антитетичных структур. Метрическая схема стихотворения красноречиво об этом свидетельствует:

Метрическая схема подтверждается схемой гласных в сильной позиции:
о о и а э и о а а э о а э у а Целостность, единство текста демонстрируется: 1) синтаксисом: одно предложение, структура, свойственная романтической поэзии и демонстрирующая единство, синтез универсума; 2) тройной рифмой "сладость - младость - радость", объединяющей нечетные, т.е. первый, серединный и заключительный, стихи, с женской клаузулой, и рифмой "даль - печаль", объединяющей четные стихи; 3) все пять рифменных слогов в сильной позиции имеют одну и ту же фонему - фонему а. Но при безусловном единстве стихотворения оно и семантически, и структурно делится на две части: I часть (1 и 2 стихи) - констатация бессмертия "пленительной сладости" стихов Жуковского; II часть (3, 4, 5 стихи) - доказательство того преобразующего воздействия поэзии Жуковского на человека, которое и определит ее бессмертие. Смена первой и второй частей проходит через стержневую третью строку; стержневой, центральный ее характер определяется семантической детерминантой, выраженной деепричастным оборотом ("внемля им"), а с другой стороны, изменением ритма (отсутствием пропуска схемного ударения во всех пяти стопах; на смену структуре

приходит структура

деепричастный оборот объединяет 3, 4 и 5 стихи. Знаком второй части помимо семантики и деепричастного оборота является и пришедшее на смену сильной фонеме а в первой стопе 1 и 2 стихов фонема э в 3, 4, 5 стихах. Но главное заключается в том, что 1 и 2 стихи имеют пропуск схемного ударения лишь в одной, четвертой стопе, 4 и 5 стихи - в двух, второй и четвертой стопах. Принцип гармонического соединения антитетичных структур (ритмических, лексических, морфологических и т.д.), продемонстрированный в стихотворении 1818 г., станет одним из определяющих принципов пушкинских текстов 1820-х годов. Пушкинское соединение антитез - это не барочное соединение несоединимого, демонстрирующее хаос бытия, это романтическое вхождение всего сущего в контекст друг друга, соединение, в результате которого определенности, оставаясь определенностями, обретают черты неопределенности, текучести, духовной беспредельности, и совершается это соединение через синтаксис, исполненный рациональной ясности и меры, и через "музыкальность" стиха (через произносимое проходит "музыка", это произносимое преображая, лишая его словарной однозначности); Пушкин, говоря о Жуковском, о "пленительной сладости" его стихов, строит эту "пленительную сладость", гармонию ритмического, звукового потока. В связи со сказанным необходимо отметить еще одно обстоятельство. Мир стихотворения - мир по преимуществу абстрактных существительных (сладость, слава, младость, печаль, радость), в основе своей это дематериализованный мир. Но абстракции введены в метафорические структуры; являясь компонентами метафор, абстракции не только одухотворяются, но обретают черты жизни, живой, повседневной реальности: "даль веков" отмечена "завистливостью", а "пленительная сладость" стихов проходит сквозь "завистливый" мир времени; "младость" "вздыхает" о "славе", а "резвая" радость "задумывается" и т.д. Нельзя не увидеть, что в подобного рода структуре есть отголосок классицистической аллегорики. Но аллегорика тем не менее снимается благодаря тому, что компоненты метафорической структуры как бы нейтрализуют друг друга, возникает особое состояние "задумывающейся" "резвой радости", "утешающейся", "безмолвной печали" и т.д., возникает текучий мир романтической неопределенности, аналогичный миру, явленному в стихах Жуковского:
Как сладко в тишине у брега струй плесканье! Как тихо веянье зефира по водам И гибкой ивы трепетанье! Но, воплощая смысловую многомерность, смысловую бесконечность, Пушкин сохраняет пластичность видения; видимо, это свойство пушкинского дарования и вызвало восторг современников, ярко выраженный Вяземским по поводу метафорической фразы "в дыму столетий", в которой, с одной стороны, благодаря переносу по функции, по ассоциации и по форме возникает широчайшее семантическое поле, а с другой стороны, это семантическое поле, определяющее сущность времени, сведено в зрительный "дым". И наконец, необходимо сказать о тех категориях, которые являются для стихотворения ключевыми, о категориях, на которых держится, с точки зрения Пушкина, духовный мир человека. Помимо "сладости" это "слава", "печаль" и "радость". "Сладость" и "печаль" - категории, неотъемлемые от элегического мирочувствования Жуковского, определяющие духовную ауру "я" Жуковского. Печаль - то состояние духа, которое свидетельствует о скорби, совмещенной с духовной просветленностью, томление духа по воплощению и понимание невозможности воплощения; с другой стороны, печаль - духовное состояние, утверждающее отсутствие определенности, проявляющейся в крайностях: радость - скорбь, и в этом смысле печаль - чувство, утверждающее бесконечное и являющееся бесконечным. В контексте стихотворения Пушкина "печаль", так же, как и "сладость", - знак Жуковского, но одновременно знак, откорректированный, введенный в бинарные отношения с "радостью": "Утешится безмолвная печаль / И резвая задумается радость"; печаль в пушкинском смысле - антитеза радости, т.е. скорбь, и этот смысл усугублен эпитетом "безмолвная" (печаль, замкнутая в себе самой, не находящая выхода в слове, тяжелая, безусловная), наполняющаяся "жуковской" семантикой лишь в результате метафорического действия, производимого "утешением". Что же касается "славы" и "радости", то в системе духовных ценностей Жуковского они не существенны, но существенны в системе ценностей Пушкина. "Слава": "И вы, наперсники порочных заблуждений, / Которым без любви я жертвовал собой, / Покоем, славою, свободой и душой..." ("Погасло дневное светило..."); "Когда возвышенные чувства, / Свобода, слава и любовь / И вдохновенные искусства / Так сильно волновали кровь..." ("Демон"); "Я славой был обязан ей - / А может быть и вдохновеньем" ("Кн. М. А. Голицыной"); и т.д. "Радость": "Где рано в бурях отцвела / Моя потерянная младость, / Где легкокрылая мне изменила радость / И сердце хладное страданью предала" ("Погасло дневное светило..."). "Слава" и "радость" в пушкинскую картину мира вошли из "антижуковской", латино-романской словесности, из анакреонтики и классицизма, из тех культур, для которых высшие ценности (и оценки) содержатся не во внутреннем, а во внешнем мире, тем более, что "радость" обозначена как "резвая". Главное же, эти категории, в особенности "слава", являлись непременными атрибутами, сигналами, по терминологии В. А. Гофмана - Л. Я. Гинзбург18, гражданской поэзии. Благодаря им макрокосм Жуковского вступает в диалогические отношения с гражданским макрокосмом, стихотворение "К портрету Жуковского" - с другим шедевром 1818 (?) года - с посланием "К Чаадаеву" ("Любви, надежды, тихой славы..."). И в этом смысле "К портрету Жуковского" демонстрирует некий синтез тогдашних поэтических и - шире - общекультурных полярностей, который будет демонстрироваться и в более позднее время. Но в тот момент, когда "резвая" радость "задумывается", происходит не только схождение пушкинского духа к духу Жуковского, но и то углубление, с одной стороны, духовного мира, а с другой стороны, поэтической структуры, которое свойственно зрелому Пушкину. Стихотворение "К портрету Жуковского" демонстрирует процесс усвоения Пушкиным опыта Жуковского, но, усваивая опыт Жуковского, Пушкин сохраняет ясность и точность мысли и слова, тот логизированный язык, который формировался в горниле классицизма и особенно рококо. По сути дела, именно это стихотворение кладет начало тому пушкинскому принципу, который ярко заявит о себе в 1820-е годы, а именно: сознательной реконструкции языка различных поэтических явлений, инонациональных культур, обогащению этими структурами собственной поэтической системы, при всем том, что эта система, углубляясь и усложняясь, сохраняет черты пушкинской неповторимости; стихотворение "К портрету Жуковского" кладет начало сознательному построению того синтеза, который в середине 1820-х годов стал основой основ пушкинского поэтического мышления.
Многому учась у Жуковского, как, впрочем, и у других современников, в том числе у Батюшкова, Пушкин сохраняет поразительную независимость суждений и оценок. Диалог Жуковский - Пушкин в 1810-е годы, как и в позднейшие годы, в том числе годы, последовавшие после смерти Пушкина, не был благостен. Об этом свидетельствует, в частности, история, относящаяся все к тому же 1818 г. В
сборнике "F
Когда взгляну на этот замок Ретлер, Приходит в мысль: а что, если то ж случится И с нашей хижиной?.. Как страшно там! Ты скажешь: смерть сидит на этих камнях. Пушкин пишет пародию:
Когда взгляну на этот замок Ретлер, Приходит в мысль: что, если это проза, Да и дурная?.. Суть же заключена в том, что "Тленность" - первый в русской поэзии образец 5-стопного нерифмованного ямба, структуры, созданной К. Марло и утвержденной в мировой драме Шекспиром. Жуковский, создав "Тленность" как своего рода стихотворную матрицу, 5-стопным нерифмованным ямбом создаст замечательный перевод "Орлеанской девы" Шиллера (1817-1821) и утвердит его в русской словесности бесповоротно. 5-стопным нерифмованным ямбом будет написан "Борис Годунов" (1824-1825) и ряд стихотворений, в том числе "...Вновь я посетил..." (1835). Но в 1818 г. 5-стопный ямб Пушкиным не был воспринят, показался прозой, как он казался всему европейскому классицизму. 1810-е годы - годы постижения Пушкиным феномена Жуковского, годы постепенного движения к пониманию характера и смысла его поэтической системы. И все же итоги пушкинского ученичества подводятся не в 1818 г., а несколько позже, в поэме "Руслан и Людмила", в которой образ Жуковского построен на пересечении "энтузиастичности" и иронической пародийности.
* Имеется в виду заключительная часть стихотворения Батюшкова "К творцу "Истории государства Российского"" (1818):
Когда скрижаль твою читал И гений твой благословлял В глубоком, сладком умиленье... Назад ** С новой силой эстетическая борьба вокруг адресата поэзии развернулась в 1850-е и последующие годы. Одним из фактов этой борьбы явилось стихотворение Полонского "Для немногих", восходящее к Жуковскому и Пушкину: "Вещих слов / Моих не слушают народы. / В моей душе проклятий нет, / Но в ней журчит родник свободы, / И для немногих я поэт". Назад
1 Вяземский П. А. Сочинения: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 103. Назад 2 Пушкин А .С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 117. Назад 3 См. о них подробно: Федоров Ф. П. Жуковский в поэтическом сознании раннего Пушкина (1820-ые годы): Статья первая // Пушкинский сборник. Вып. 2. Иерусалим, 1998; Его же. Жуковский в поэтическом сознании раннего Пушкина (1820-ые годы): Статья вторая // Пушкинский сборник. Даугавпилс (в печати). Назад 4 Аверинцев С. С. Поэзия Державина // Державин Г. Р. Оды. Л., 1985. С. 19. Назад 5 Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 123-124; Томашевский Б. В. Пушкин. М., 1990. Т. 1. С. 55. Назад 6 Кошелев В. А. В предчувствии Пушкина: К. Н. Батюшков в русской словесности начала XIX века. Псков, 1995. С. 101. Назад 7 См.: Гаспаров М. Л. Поэзия Пиндара // Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С. 376; Гаспаров М. Л. Поэзия Горация // Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 29; Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе. Л., 1980. С. 72-75. Назад 8 Цявловский М. А. Послание "К Жуковскому" ("Благослови, поэт!..") // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 107-109. Назад 9 "В целях преобразования России Союз Благоденствия считал необходимым создать в России общественное мнение, которым бы руководили политические заговорщики через посредство литературы и публицистики"; "Оду "Вольность" роднит с идеями Н. Тургенева не только противопоставление любовной и политической поэзии, но весь круг идей, отношение к французской революции и русскому самодержавию. Ода "Вольность" выражала политические концепции Союза Благоденствия, и воззрения Н. И. Тургенева отразились в ней непосредственным образом" (Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982. С. 38-39). Назад 10 Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975. С. 40. Назад 11 Русский архив. 1896. N 10. С. 208. Назад 12 А. С. Пушкин. Новонайденные его сочинения. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Биографические и критические статьи о нем. М., 1885. Вып. II. С. 14. Назад 13 Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 154. Назад 14 Рылеев К. Ф. Сочинения. Л., 1987. С. 318. Назад 15 Кюхельбекер В. К. Сочинения. Л., 1989. С. 440. Назад 16 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. 10. С. 112. Назад 17 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 61-62. Назад 18 Гофман В. А. Литературное дело Рылеева // Рылеев К. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934; Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974. С. 19-50. Назад
* Пушкинские чтения в Тарту 2 . Тарту, 2000. С. 25-42.Назад |
 r Wenige" / "Для немногих", название которого, восходящее к знаменитым стихам Горация "Не желай удивленья толпы, но пиши для немногих", "навлекло на Жуковского нарекания у современников, а также и в потомстве"
r Wenige" / "Для немногих", название которого, восходящее к знаменитым стихам Горация "Не желай удивленья толпы, но пиши для немногих", "навлекло на Жуковского нарекания у современников, а также и в потомстве" l" и "К Чаадаеву" (если послание "К Чаадаеву" относится все же к 1818 г.).
l" и "К Чаадаеву" (если послание "К Чаадаеву" относится все же к 1818 г.).