 |
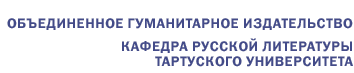 |
|
ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ: ИРИНА БЕЛОБРОВЦЕВА, СВЕТЛАНА КУЛЬЮС Избегая в своих произведениях слова портрет, Булгаков, тем не менее, довольно часто дает портретные зарисовки интересующих его писателей. Хотя биографически близкому к Булгакову повествователю "Записок на манжетах" снится сон о том, что он - вегетарианец Лев Толстой (Булгаков 1989-1990/1: 506), в дальнейшем в творчестве писателя не Толстой сополагается с автором, а Пушкин и Гоголь. Осознаваемые в истории русской литературы как истоки двух мощных, но различных традиций, Гоголь и Пушкин у Булгакова заявлены в некоем единстве и составляют своего рода треугольник, где третьей стороной оказывается сам Булгаков. Булгаков одинаково высоко оценивает двух наиболее значимых для него русских писателей: Гоголя он называет "великим учителем" и "моим учителем" (5, 470 и 463; ср.: после прочтения книги В. Вересаева "Гоголь в жизни" (1933) Булгаков пишет автору: "Боже, какая фигура! Какая личность!" - 5, 491). Такова же оценка Пушкина - "командор нашего русского ордена писателей" (5, 474). Постоянное соположение имен двух художников XIX-го века находит внешнее объяснение и в том, что Булгаков одновременно работает над киносценариями по "Мертвым душам" и "Ревизору" и над пьесой "Александр Пушкин". Так, в инсценировке "Мертвых душ" обнаруживается не только Гоголь в роли Первого, но и косвенное присутствие Пушкина в столичном трактире, где до Чичикова и Секретаря опекунского совета "донеслись голоса: "Саша! Александр Сергеевич! Еще шампанских жажда просит..." Хохот. Опять голоса: "А уж брегета звон доносит!.."" (4, II). Для Булгакова это первое использование приема, на котором позже будет построена пьеса "Александр Пушкин": изображение Пушкина без его присутствия. Как обычно при обращении с сакральными для него именами, Булгаков не перестает подавать эту тему и в другом, игровом ключе, продолжая и здесь постоянно объединять Гоголя и Пушкина. В "Записках на манжетах" у Пушкина появляется двойник - портрет, нарисованный неумелой художницей и обнаруживающий неожиданное сходство с гоголевским персонажем: "Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой" (1, 485)1. В рассказе "Похождения Чичикова" постоянная связь двух писателей проступает в заявлении булгаковского Чичикова, который в духе времени дает название своему несуществующему предприятию - "Пампуш на Твербуле" (позже аббревиатура расшифровывается как памятник Пушкину на Тверском бульваре). Время от времени Булгаков присоединяет и собственный образ к двум своим кумирам в литературе. Именно он разоблачает Чичикова в упомянутом рассказе, а в "Записках на манжетах" появляется его тень в цилиндре, которая делает его двойником Пушкина, тогда как в действительности на голове у него кепка, а не цилиндр, который он давно "с голодухи на базар снес". Прямое соотнесение Булгакова и Пушкина выявлено в бормотании повествователя абзацем выше: "Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta rosa. И как гром его угроза" (1, 487). Автобиографический герой и Пушкин соотнесены в "Записках" также посторонним недоброжелательным наблюдателем, "дебоширом в поэзии": "Про меня пишет. И про Пушкина" (1, 481). Триединство Пушкин - Гоголь - Булгаков ясно прочитывается и при сопоставлении портретных зарисовок писателей. Почти уникально для авторской манеры Булгакова полное описание облика, подходящее под характеристику традиционного литературного портрета: "В бедной комнате, в кресле, сидел человек с длиннейшим птичьим носом, больными и встревоженными глазами, с волосами, ниспадавшими прямыми прядями на изможденные щеки, в узких светлых брюках со штрипками, в обуви с квадратными носами, во фрачке синем. Рукопись на коленях, свеча в шандале на столе" (4, 459; здесь и далее выделено нами. - И. Б., С. К.)2. Гораздо чаще из полной парадигмы извлекаются отдельные черты, причем у всех писателей особо маркируются волосы/прическа и глаза. Так, в письме П. С. Попову от 25.01.-24.02.1932 г. Гоголь описан как "хорошо знакомый человек с острым носом, больными сумасшедшими глазами"(5, 470); "человеком с огненными глазами" (1, 480) предстает и Пушкин в "Записках на манжетах", а в пьесе "Александр Пушкин" - по словам Долгорукова - "он стоит у колонны в каком-то канальском фрачишке, волосы всклокоченные, а глаза горят, как у волка" (3, 483) (ср. сходство с одеянием Гоголя - "во фрачке синем", а также одинаково отмеченную деталь одежды - "узкие светлые брюки" в описании Гоголя и "белые штаны" Пушкина в "Записках на манжетах" - 1, 480). Сходным образом описываются и автобиографические герои Булгакова, в частности, в портрете Максудова, созданном его литературным соперником Ликоспастовым в рассказе "Жилец по ордеру", выделены "втянутая в плечи голова и волчьи глаза" (4, 433; а попутно опять-таки упомянуты "брюки те же самые"). Тройственное литературное поле подсвечено соотнесением Гоголя, Пушкина с собственным творчеством Булгакова: написана пьеса о Пушкине, инсценируется поэма Гоголя, образы писателей включаются в состав булгаковских произведений, создавая в них гоголевский и пушкинский пласты. Наличие этого литературного пространства подчеркивается парадоксальным сходством портретов всей "троицы" авторов, при общеизвестной полярности их внешности. Словно следуя закону транзитивности, согласно которому два члена одного уравнения, в отдельности равные третьему, равны между собой, Булгаков делает возможным сходство Гоголя и Пушкина, сопоставляя их внешность со своей собственной. Особенно явственно такое сопоставление прослеживается на игре с внешностью Мастера в сцене его появления в "Мастере и Маргарите" по всем известным вариантам романа. Еще задолго до описания Мастера в клинике, в 1932 году, Булгаков дал в своем письме портрет Гоголя с "больными сумасшедшими глазами" (5, 470). Вполне возможно, что эта известная по мемуарам современников деталь портрета последних лет жизни Гоголя обусловила появление в булгаковском "закатном романе" мотива безумия героя. Небезынтересно здесь и то, что некоторые друзья Булгакова были убеждены, что внешне он похож на Гоголя (см.: Дневник 1990: 156). Внешность Мастера при первом его появлении, в варианте, опубликованном под названием "Великий канцлер", описывалась Булгаковым с явной прикидкой на самого себя: "...знакомый рыжеватый вихор и зеленоватые эти глаза" (Булгаков 1992: 157). Здесь еще нет "дома скорби", а Мастер впервые появляется в сцене после бала. В главах, написанных в 1934-36 гг., то есть отчасти и во время работы над пьесой "Александр Пушкин", Мастер уже пациент психиатрической клиники. Это "человек лет 35-ти примерно, худой и бритый блондин, с висящим клоком волос и с острым птичьим носом" (Булгаков 1992: 295). Иными словами, изменения начались, но пока что сохранены светлые волосы, а птичий нос можно трактовать и как нос уточкой - именно такой отмечал у себя самого Булгаков. В редакции 1937 года изменены обе эти детали: Мастер "худой и бритый, с висящим темным клоком волос и длинным острым носом" (Булгаков 1993: 97). Направленность изменений внешности героя очевидна: автор уходит от автобиографического сходства. Но, с другой стороны, герой начинает походить на "хорошо знакомого психически неуравновешенного" человека. Это сходство еще более усиливается и обретает однозначный характер в окончательном тексте романа, где Мастер предстает как "бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос" (5, 129). Здесь Булгаков по своему обыкновению выделяет волосы/прическу героя и его глаза и при этом обнаруживает удивительное постоянство, едва ли не текстуальное совпадение в описании главного героя романа и уже упомянутом портрете Гоголя в своем же письме 1932 года (5, 470). Итак, ряд изменений внешности Мастера, автобиографического героя, строится не только на отказе от сходства с обликом автора, но и на уподоблении его именно Гоголю, со всеми сопутствующими мотиву безумия коннотациями. Аналогичным образом выстраивается сопоставление портретов Пушкина и самого Булгакова. В основу сопоставления положены те две детали, которые, кроме зафиксированного значимого одеяния Пушкина в пьесе "Александр Пушкин", вошли в описание его внешности в сцене на балу - волосы и глаза. Именно такими лаконичными средствами набросан его портрет: "...волосы всклокоченные, а глаза горят, как у волка..." (3, 483). Состояние одиночества и затравленности, которые Булгаков подчеркивает у Пушкина (как, впрочем, и у Гоголя, что делает упомянутое триединство еще более явственным), проецируются им на собственное душевное состояние. Не случайно, например, в соответствующих ситуациях Булгаков порой прибегает к парафразу пушкинских строк: так, в письме Е. Замятину он обыгрывает псевдоним и прозвище своего адресата - "На душе и зуйно, и фонно" (4, 430), проецируя конструкцию фразы на пушкинское "и кюхельбекерно, и тошно" (см. об этом: 5, 694). Видимо, с той же целью он придает автобиографическим героям и повествователям уже найденные им портретные характеристики Пушкина, причем в качестве главенствующей черты выделены глаза - "...глаза. Нехорошие. Опять с блеском" (1, 506). Смотрит, по словам Ликоспастова, "волчьими глазами" (4, 409) и Максудов, который к тому же, внезапно взглянув на себя в зеркало, видит в нем "лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль" (4, 534). Как и в случае с Гоголем, сопровождает эти описания тема героя-безумца. Сложным образом организованный мотив волка (см.: Яблоков 1997) встречается уже в ранних произведениях Булгакова, где он является в двух ипостасях - во-первых, это страдающий, одинокий человек - таков, например, доктор в "Записках юного врача" (см. "Полотенце с петухом") - или затравленный, как Алексей Турбин в "Белой гвардии", который в момент петлюровской облавы подчиняется звериным инстинктам и "превращается в мудрого волка" (1, 347). Во-вторых, в той же "Белой гвардии" есть и другая ипостась мотива волка - беспощадный хищник. Достаточно подробное описание предводителя бандитской шайки, которая грабит Василису, развернуто именно как портрет волка: "В первом человеке все было волчье... Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки западали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья... и успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа" (1, 368). В более позднем творчестве у Булгакова возникает авторская мифологема волк, которая теперь обозначает всякого истинного художника, одинокого и затравленного, - именно таким видится Булгакову в пьесе одиноко стоящий у колонны Пушкин, которого обычно представляют в кругу друзей. О собственной "многолетней затравленности" М. Булгаков говорит и в письме к Сталину от 31 мая 1931 г., где слова "волк" и "литератор" выступают в синонимическом ряду: "На широком поле российской словесности в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе... Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии..." (Булгаков 1989: 195-196)3. По признаку одиночества и душевной ранимости Пушкин вновь объединен с Гоголем, зато гонители истинного творчества оказываются - сродни волкам уже в прямом значении этого слова - хищными зверями. Не случайны в "Записках покойника" псевдоним фельетониста, напавшего на Максудова, - Волкодав (давящий волков), и фамилия Ликоспастов, которая недвусмысленно восходит к волку - греческому "ликос" - и может осмысляться как "волчья пасть" (ср. иное толкование волчьей сути Ликоспастова в статье А. Арьева - 1988: 443). Одна из особенностей булгаковского изображения Гоголя и Пушкина состоит в том, что они имеют и другую форму существования - памятник. Так, Гоголь, согласно письму Булгакова, вбегает к нему во сне в своей "чугунной шинели" (5, 470), а Пушкин в "Мастере и Маргарите" стоит на Тверском бульваре перед Рюхиным - "чугунный" или, в вариантах, "металлический". Однако при этом статуям придается статус живых, что подчеркивается использованием слова "человек" (ср. о Гоголе: "вбежал хорошо знакомый человек" (5, 470) или о Пушкине: "...близехонько от него стоит на постаменте металлический человек" (5, 73, встречается также странное смешение этих двух вариантов: "со складками штаны как чугунные на памятнике поэта Пушкина, в Москве" - 2, 446). В противоположность этому писатели-современники чаще всего характеризуются словом литератор, а если определение человек и употребляется, то с комическим уточнением: "...пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасною сволочью" (4, 406), "...литератор, тот, который оказался сволочью", "молодой литератор", "...появился новый человек. Тоже литератор..." (4, 407); "знаменитый литератор Измаил Александрович Бондаревский", "и другой знаменитый литератор - Егор Агапенов", "известнейший автор Лесосеков", "беллетрист Фиалков" (4, 423-424), "представители поэтического подраздела Массолита" (5, 61) и т.п.4 И здесь, сохраняя единое духовное пространство, образованное именами Пушкин - Гоголь - Булгаков, последний, вопреки утверждению Маяковского (кстати, высказанному им в стихотворении "Юбилейное" в разговоре с Пушкиным) о ненужности любых памятников, согласен быть причастным к вечно длящемуся бытию своих любимых писателей - во сне Гоголь, по его просьбе, укрывает его своей чугунной шинелью, защищая от назойливости толпы. Сон, рассказанный Булгаковым в письме П. С. Попову, оказался провиденциальным: на могиле Булгакова была установлена Голгофа - надмогильный камень Гоголя. Оправдалось и другое булгаковское предсказание, в котором он устанавливает свою преемственность по отношению к пушкинской судьбе и гибели - если на теле Пушкина "нашли тяжкую пистолетную рану", то у "одного из потомков перед отправкой в дальний путь найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине" (5, 474). ПРИМЕЧАНИЯ 1 В этом эпизоде "Записок на манжетах" Булгаков, по сути, десакрализует Пушкина: увидев кощунственный "ноздревский" портрет, повествователь замер от ужаса, но в последующей сцене, на публике, хихикнул, вызвав гомерический хохот в зале и зрительское ожидание юмора Пушкина, хотя произносились патетические фразы наподобие "северного сияния на снежных пустынях словесности российской" (1, 486). Однако десакрализация введена как подчеркнуто игровой момент - в реальности, по свидетельству Т. Лаппа, Булгаков, как бы он ни относился к этому портрету, который висел в зале на диспуте о Пушкине во Владикавказе, отстоял его: "А портрет Пушкина хотели уничтожить, но мы не дали" (Паршин 1991: 84). Назад 2 При всей редкости полной портретной характеристики у Булгакова ее удостоился его вечный оппонент Владимир Маяковский. Минималистский портрет Маяковского ("Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал надтреснутым басом..." - 2, 297) есть в фельетоне 1923 г. "Бенефис лорда Керзона". Кроме того, Маяковский вне сомнений был одним из прототипов образа Воланда в романе "Мастер и Маргарита" (см. об этом: Белобровцева, Кульюс 1996). В "Записках на манжетах" встречается единственный в творчестве Булгакова и вообще, по-видимому, редчайший в истории литературы вариант заведомо ложного портрета: "Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. ... Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор - Конан-Дойль. Любимая опера - "Евгений Онегин". Сам готовит себе на примусе котлеты" (1, 492). Портрет принадлежит Маяковскому, внешность которого без всякого сомнения к 1922 году Булгаков знал. Приведенный портрет представляет собой некую систему знаков. Каждая названная деталь портрета антиномична реальной внешности Маяковского, а вместе они составляют систему от противного: из них никак не складывается облик футуриста, поэта-трибуна или человека, способного создать неологизм "дювлам" (двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского), от которого и отталкивается повествователь "Записок на манжетах". И, наконец, Булгаков, создавая этот антипортрет, лишает его наиболее важных для его любимых писателей черт внешности - глаз (что показательно, если вспомнить сентенцию "Глаза - зеркало души") и волос (хотя "прическа" маркирована и в этом портрете, но она представляет собой скорее минус-прием, "минус-прическу"). Назад 3 В соответствии с алгоритмом, который был выявлен нами на примере романа "Мастер и Маргарита", Булгаков, вводя известную в истории мировой культуры мифологему в свой текст, одновременно переосмысляет ее значение, конструирует на этой основе авторский миф и, с другой стороны, вводит сниженный вариант этой мифологемы. То же прослеживается при использовании мифологемы "волк" - в ряде текстов Булгакова ему противостоит "собака". Это становится особенно заметным в эпистолярии Булгакова, в частности, в его письмах к правительству СССР и Сталину, сам жанр которых предполагает публицистическую обнаженность сравнения. Ср.: "Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя" (Письма 1989: 195; ср. также "собачью" направленность многочисленных цитат из критики, приведенных Булгаковым в письме правительству СССР - 5, 444). Назад 4 В тот же ряд "литераторов" встает и Маяковский, портрет которого в фельетоне "Бенефис лорда Керзона" дан на фоне толпы и под обелиском Свободы: "Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножья памятника кипело, как в муравейнике" (2, 297). В этом смысле он противопоставлен у Булгакова настоящим художникам, всегда одиноким, к тому же обелиск Свободы на Тверской явно принадлежал к разряду временных памятников революции, т.е. не соотнесен Булгаковым с вечностью (см. об этом также: Белобровцева, Кульюс 1998; Белобровцева, Кульюс 1999). Назад ЛИТЕРАТУРА Арьев 1988: Арьев А. "Что пользы, если Моцарт будет жив..." (Михаил Булгаков и Юрий Слезкин) // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 425-444. Белобровцева, Кульюс 1996: Белобровцева И., Кульюс С. "Бывают странные сближенья...": "Мастер и Маргарита" - постмодернистский роман? // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V. Studia Helsingiensia 16. Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Хельсинки, 1996. С. 375-381. Белобровцева, Кульюс 1998: Белобровцева И., Кульюс С. Проблема прототипа в творчестве М. Булгакова (очевидное и скрытое) // Блоковский сборник XIV. Тарту, 1998. С. 168-187. Белобровцева Кульюс 1999: Белобровцева И., Кульюс С. А. Пушкин и Сашка Рюхин: "Медный всадник" в "Мастере и Маргарите" // Пушкинский юбилейный. Иерусалим, 1999. С. 161-168. Булгаков 1989: Булгаков М. Письма: Жизнеописание в документах. М., 1989. Булгаков 1989-1990/1: Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. М., 1989-1990/1. Далее все ссылки на это издание даны в основном тексте с указанием тома и страницы в скобках после цитаты. Булгаков 1992: Булгаков М. Великий канцлер. М., 1992. Булгаков 1993: Булгаков М. Неизвестный Булгаков. М., 1993. Дневник 1990: Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. Паршин 1991: Паршин Л. Из семейной хроники Михаила Булгакова: Чертовщина в американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. М., 1991. С. 13-113. Яблоков 1997: Яблоков Е. А. Мотивы прозы Михаила Булгакова. М., 1997. * Пушкинские чтения в Тарту 2 . Тарту, 2000. С. 257-266. Назад |