 |
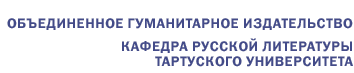 |
|
ПУШКИН В "МЕЛКОМ БЕСЕ" Ф. СОЛОГУБА* ЛЕА ПИЛЬД Обозначенная в заглавии нашей статьи тема уже привлекала внимание исследователей. С одной стороны, объектом анализа становился "пушкинский" цитатный пласт в романе; с другой же - писательская индивидуальность Пушкина в оценке Сологуба1. Как правило, Сологуба считают солидарным в осмыслении пушкинского творчества с другими символистами, противопоставлявшими себя в этом отношении несимволистскому окружению. Цель нашей работы - выяснение авторской оценки в "пушкинских" цитатах и реминисценциях, которая, как мы собираемся показать, отнюдь не сводится у Сологуба к демонстрации общесимволистской солидарности, а также - выявление отношения писателя к русской литературной традиции XIX века, продолжающей, в глазах Сологуба, линию, намеченную Пушкиным. В исследовательской литературе сниженная интерпретация "пушкинской" темы в романе однозначно связывалась с восприятием персонажей (Передонова и других), с особенностями изображаемого провинциального быта, а не с системой авторских оценок. Ключ к такой точке зрения отчасти задал сам Сологуб, опубликовавший в "пушкинском" (юбилейном) номере "Мира искусства" 1899 г. статью "К всероссийскому торжеству"2, которая, действительно, вполне однозначно согласуется с выступлениями других представителей "декадентского" лагеря (Д. Мережковского и Н. Минского), отстаивавших свободный от тенденциозности взгляд на Пушкина как на художника, в первую очередь. Следует, однако, различать по крайней мере две линии в литературном поведении Сологуба. Публикуясь в "Мире искусства", он ориентируется на внутринаправленческое единство. При создании романа его позиция полидоминантна, в частности, она резко полемична в отношении некоторых других представителей "нового искусства". Через несколько лет после начала работы Сологуба над "Мелким бесом" (1892-1902), в 1896 г., выходит книга Мережковского "Пушкин". Здесь Мережковский, во многом следуя за Достоевским3, объявляет Пушкина единственным представителем подлинной культуры в России, сопоставляет его с Гете как идеальным воплощением истинной "культурности", недоступной пока русским литераторам. Для формирующегося нового литературного направления - символизма - Пушкин, по Мережковскому, это высочайший образец толерантности и плюрализма в культуре, и поэтому представителям этого направления надлежит возрождать в искусстве пушкинское отношение к жизни: синтезировать противоположные начала - "языческое" и "христианское". Сходной точки зрения на пушкинское творчество придерживался и Н. Минский, литератор, близкий Сологубу не только в направленческом, но и в мировоззренческом и личном планах. Представление о Пушкине как о совершенном, гармоничном литераторе, "всечеловеке", писателе цельном, и, по выражению Л. Шестова, преодолевшем "ужас жизни"4, казалось Сологубу глубоко ложным. По свидетельству биографа Сологуба, О. Черносвитовой, уже в ранней юности поэт не очень высоко оценивал Пушкина: "Последний <Пушкин. - Л. П.> казался ему аристократом, наслушавшимся сказок и набравшимся суеверий от своей няньки, и незаслуженно получившим титул народного поэта"5. Очень показательно также свидетельство Анны Ахматовой, высказанное через несколько лет после смерти Сологуба: "Да, он Пушкина не выносил. Ненавидел. Быть может, завидовал ему: соперник! С. был человеком таким причудливым, что мог и завидовать Пушкину. Оленька, которая знала С. гораздо ближе, чем я, говорит, что оно так и было..."6. Ахматова довольно откровенно намекает на возможность у Сологуба культурной зависти к Пушкину. В переданном О. Черносвитовой свидетельстве также можно усмотреть противопоставление Пушкина и Сологуба по социо-культурным критериям. Однако нас сейчас интересуют не столько культурно-психологические причины отношения Сологуба к Пушкину, сколько, как уже было сказано, историко-литературная сторона проблемы. Реминисценции из произведений Пушкина в "Мелком бесе" занимают довольно большое место. По смысловой функции их можно условно разделить на три группы: 1. Реминисценции, характеризующие облик Пушкина в восприятии современных Сологубу литераторов; 2. Реминисценции, отсылающие непосредственно к сологубовской концепции Пушкина; 3. Реминисценции, характеризующие сознание Передонова и других персонажей романа. Остановимся на характеристике первых двух групп, так как последняя рассматривалась исследователями. Как справедливо указала Н. Пустыгина, в сцене сватовства Передонова к сестрам Рутиловым пародируется "Сказка о царе Салтане" Пушкина7. Смысл этой пародии усматривается исследовательницей (безотносительно к Пушкину) в том, что литература как целое низводится в романе на уровень фольклора, поскольку Сологуб скептически относится к возможности преображения реальности литературой. Последнее утверждение может быть развито. Действительно, сестры Рутиловы по просьбе Передонова по очереди выходят на улицу и каждая объявляет, чем будет ему "угождать". Однако в этой сцене можно усмотреть пародию и на другой известный текст Пушкина, а именно - "Египетские ночи", так как характеристика сестер - это комическая перелицовка свойств трех персонажей из стихотворения Пушкина "Чертог сиял...", мужественно принявших вызов Клеопатры. Так, сдержанному полководцу Флавию соответствует у Сологуба старшая сестра - степенная в поведении - Дарья; "рожденному в рощах Эпикура" Критону - чувственная Людмила и неопытному юноше, не передавшего "имени векам" - юная и робкая Валерия. Ситуация "торга", которая разворачивается под покровом ночи, разрешается у Сологуба тем, что Передонов, поначалу оказавшийся в роли Клеопатры и размышлявший о грядущих эротических наслаждениях, внезапно пугается темноты, а в сестрах начинает видеть своих губительниц: "Передонов начал уже бояться, что пока он тут стоит, на него нападут и ограбят, а то так и убьют"; "А жена-то станет привередничать, а за кухней, пожалуй, и не доглядит. А еще на кухне подсыплют ему яду, - Варя со злости подкупит кухарку"8. На этом, однако, не заканчиваются "пушкинские" аллюзии в характеристике сестер Рутиловых. Линия Людмилы отсылает к пушкинской поэме "Руслан и Людмила": Людмила у Сологуба, которой в начале романа грозит опасность оказаться во власти угрюмого Передонова (ему соответствует Черномор у Пушкина), удачно избегает этой опасности и в дальнейшем оказывается счастлива, влюбившись в Сашу Пыльникова. Как и в поэме Пушкина, авторское отношение к Людмиле далеко не однозначно, и все эпизоды романа с ее участием пронизаны иронией. Отсылка к сюжету поэмы может быть связана с тем, что именно в 1880-е - 90-е гг. появилось несколько литературоведческих работ, посвященных названной поэме, в которых так называемая "народность" Пушкина непосредственно соотносилась с ее фольклорными источниками, а затем, в 1899 г., была опубликована работа Миллера, демонстрирующая невозможность такого непрофессионального подхода к поэме. Сологубу, считавшему все толки о Пушкине - национальном поэте мифом и спекуляцией, ход мысли Миллера мог показаться близким9. "Пушкинский" реминисцентный пласт в характеристике сестер Рутиловых следует считать одним из основных по своей функциональной роли. Помимо пушкинских текстов мы находим здесь отсылки по крайней мере к двум традициям. Во-первых, это античная традиция, с которой у Сологуба связан облик всех трех сестер (ср. исполняемый Дарьей куплет пасторали на эротическую тему: "Где делось платье, где свирель? / Нагой нагу влечет на мель. / Страх гонит стыд, стыд гонит страх, / Пастушка вопиет в слезах: / Забудь, что видел ты! - С. 142). Во-вторых, это декадентская поэзия 1890-х годов, по всей вероятности - эротические стихотворения Валерия Брюсова. Имя третьей сестры (Валерия), столь разительно контрастирующее по своей историко-культурной семантике с именами двух старших сестер (Дарья, Людмила), отсылает читателя к контексту "нового искусства" (в представлении несимволистской критики и усредненного читателя 1890-х гг., которое здесь реконструирует Сологуб, - искусства вырождающегося): "...Валерия, маленькая, нежная, хрупкая на вид" (56); "Она была грустна. Ей казалось, что она маленькая, слабая, хрупкая..." (171); "Валерия смеялась тихо, стеклянно-звенящим смехом, и завистливо смотрела на сестер: ей бы хотелось такого же веселия, но было почему-то невесело, она думала, что она последняя, "поскребыш", а потому слабая и несчастливая" (144). Таким образом, реминисценции из пушкинских произведений, в которых Сологуб выделяет эротическую проблематику, включены в контекст двух литературных традиций (античность и современное Сологубу "декадентство"), где также акцентирована эротическая (и шире - "языческая", в терминологии Мережковского) тема. (Ср. в связи со сказанным строки из стихотворения Минского "Пушкин": "Как светлый полубог языческого мира; / Он взят был от людей, чтоб вечной стать / звездой"10.) Образ Пушкина, который Сологуб создает в указанном контексте романа - это образ, отсылающий прежде всего к предъюбилейной полемике вокруг имени Пушкина. Основное представление о Пушкине, которым оперировали некоторые участники полемики (например, не только литераторы-декаденты, но и Вл. Соловьев, В. Розанов, Л. Толстой) - это представление о самоценном эстете, художнике, не решающем в своем творчестве внеэстетических задач. Сологуб-художник с одинаковой иронией относился, с одной стороны, к порицаниям Пушкина-эстета со стороны Л. Толстого и Вл. Соловьева, а с другой стороны, к провозглашенной Минским и Мережковским необходимости возрождения пушкинской традиции в литературе. К числу цитат, непосредственно отсылающих к сологубовской концепции Пушкина, принадлежит, на наш взгляд, цитата из "Евгения Онегина", которую Передонов комментирует в классе: "Встает заря во мгле холодной, / На нивах шум работ умолк, / С своей волчихою голодной / Выходит на дорогу волк" (248). Передонов указывает ученикам на скрытую якобы в пушкинском тексте аллегорию: "Волки попарно ходят: волк с волчихою голодной. Волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу" (Там же). А. Л. Соболев в статье "Из комментариев к "Мелкому бесу": "пушкинский" урок Передонова" указал на то, что Сологуб высмеивает здесь позитивистский подход к интерпретации художественного текста11. При всей справедливости этого вывода остается, однако, неясным, почему в текст романа попадает именно эта цитата. Обратившись к упомянутой в начале статьи книге Мережковского "Пушкин", находим ту же цитату из "Евгения Онегина". Мережковский, однако, не ограничивается первыми четырьмя строчками ХLI строфы из четвертой главы романа в стихах, а приводит в своей книге всю строфу. Строфа служит для Мережковского доказательством умения Пушкина описывать самые унылые пейзажи по-гомеровски отстраненно и спокойно, внося в такое описание элемент душевного равновесия. Одновременно для Мережковского этот пушкинский пейзаж коррелирует с "пейзажем души" русского интеллигента конца XIX века, не способного уравновесить спокойным созерцанием свое уныние12. Можно предположить, что выбор цитаты для "пушкинского" урока Передонова был опосредован для Сологуба названным текстом Мережковского. Поскольку "мрачные" компоненты пушкинского пейзажа сконцентрированы как раз в первых четырех строках строфы, то именно они наиболее адекватно выражают вечно угрюмое душевное состояние Передонова. Очевидно, что Передонов усматривает здесь не пейзаж, а фабульное повествование, прилагая его к обстоятельствам собственной жизни: одержимый манией преследования, он постоянно боится неожиданных поступков со стороны своей жены. Примечателен и выбор образа, с которым Передонов отождествляет себя: волк. Исследователи неоднократно указывали на то, что многие персонажи романа являются оборотнями, однако именно волку устойчиво приписывается оборотничество. Примечательно и то, что единственная пушкинская цитата в романе - это цитата, где речь идет о волках. В связи со сказанным необходимо вспомнить, что основной литературный миф, связанный с передоновской линией в романе - это миф, восходящий к сюжету "Пиковой дамы" Пушкина. До сих пор, однако, не обращалось внимания на смысловой ореол, возникающий вокруг фамилии мифической княгини (ее прототипом является пушкинская графиня), якобы покровительствующей Передонову - Волчанская. На протяжении всего романа княгиня претерпевает различные трансформации в сознании Передонова: является ему то в виде карточной фигуры, то недотыкомки, то в образе "пепельно-серой женщины". Княгиня Волчанская в соответствии со смысловым потенциалом своей фамилии предстает в романе как женщина-оборотень. Показательно, что "волчья" семантика в обоих указанных контекстах романа связана с пушкинскими текстами. Наконец, следует остановиться на том, что имя Пушкина как реального исторического лица неоднократно появляется на страницах романа. Почти всегда оно соотнесено с фамилией польского поэта Мицкевича, а в эпизоде, где описывается, как Марта (полька по национальности) и Передонов едут в деревню, упоминание о Пушкине включено в контекст разговора героев о поведении поляков как российских подданных. В исследовательской традиции сложилось мнение, что параллель между Пушкиным и Мицкевичем, которая возникает в сознании Передонова, вызвана тем, что празднование юбилея обоих поэтов в конце 1890-х гг. спровоцировало довольно живую полемику на страницах журналов и газет и отголоски этой полемики причудливо трансформировались в сознании Передонова13. Между тем достоверно и другое объяснение. Передонов говорит Марте: "Вы, поляки, все бунтовать собираетесь, да только напрасно <...> Только мы вам не отдадим вашей Польши. Мы вас завоевали. Мы вам столько благодеяний сделали, да, видно, как волка не корми, он все в лес смотрит" (79); "Ну, да зато у вас Мицкевич был. Он выше нашего Пушкина. Он у меня на стене висит. Прежде там Пушкин висел, да я его в сортир вынес, - он камер-лакеем был" (80). Чтобы объяснить эти словесные пассажи Передонова, необходимо обратиться к более широкому смысловому контексту романа и, в первую очередь, выяснить, какую роль играет в романе героиня польского происхождения по имени Марта. Вспомним, что Марта - дочь бедного помещика, которую берет в свой дом вдова Вершина с целью выдать ее замуж. В романе Вершина предстает как хозяйка сада, выполняющего по отношению к Передонову и некоторым другим персонажам функцию западни: места, куда заманивают с нечистыми целями: "Не столько словами, сколько легкими, быстрыми движениями зазывала она Передонова в свой сад..." (28)14. "Сад" Вершиной - это место, где говорят преимущественно о возможностях замужества или женитьбы и где разговоры о взаимоотношениях противоположных полов почти лишены эротических коннотаций. В этом отношении "сад" Вершиной противопоставлен дому сестер Рутиловых - "язычниц" в понимании любви. В литературе уже отмечалось, что Вершина - персонаж демонический и что "дым", постоянно ее окружающий, имеет символический смысл: дым превращается в огонь, уничтожающий кажущийся мир призрачной провинциальной действительности15. Однако этот символ включает в себя и более конкретный план значений: "Вершина курила папиросу за папиросою. Она не могла жить без табачного дыма перед ее носом" (31). Соотнесение мотивов "дыма" и "сада" ("усадьбы") дает возможность увидеть здесь отсылку к Тургеневу, и шире - к традиции русского романа в его "усадебной" жанровой разновидности, а также - к "антинигилистическому" роману. Так, в частности, "Дым" - это заглавие тургеневского романа, в течение достаточно долгого времени считавшегося "антинигилистическим", кроме того, "дым" - это своеобразная историко-культурная реалия, непосредственно связанная с московскими и петербургскими пожарами начала 1860-х годов, считавшимися плодом деятельности российских нигилистов. Чуть позже эта реалия попадает в антинигилистический роман и становится метонимическим знаком, характеризующим культурно-бытовой облик русских нигилистов. Образ Марты, бедной польки, находящейся в саду (т.е. в плену) у Вершиной тоже отсылает к образу нигилистов в русской художественной литературе и консервативной публицистике. Сологуб пародийно переворачивает миф о поляках как лицах, играющих одну из главных ролей в нигилистическом движении. Его Марта предельно пассивна и аморфна, но меж тем соотнесена с евангельской Марфой, пекущейся о материальном. В конце романа к ней сватается помещик Мурин (фамилия старика-колдуна из повести Достоевского "Хозяйка"). Отсылка к Достоевскому окончательно обнажает механизм сологубовской пародии: идейная структура русского романа в решении польской темы соответствует, по Сологубу, официальной политике русского государства. Пушкин в контексте разговора Передонова и Марты появляется неслучайно. Марта смотрит на Передонова как на своего потенциального жениха. Передонов это знает, поэтому и вопросы его отчасти связаны с предполагаемым замужеством Марты, хотя она его и не интересует. Рассуждения Передонова о Марте-хозяйке и хозяйках-польках неожиданно пресекаются его же собственным замечанием о Пушкине и Мицкевиче: "...польки все неряхи. Он посмотрел на Марту, и с удовольствием заметив, что она сильно покраснела, сказал из любезности: "Да вы не думайте, я не про вас говорю. Я знаю, что вы будете хорошая хозяйка". - Все польки - хорошие хозяйки, - ответила Марта. - Ну да, - возразил Передонов, - хозяйки, сверху чисто, а юбки грязные. Но зато у вас Мицкевич был. Он выше нашего Пушкина" (80). На то, что нравственное значение поэзии Мицкевича выше пушкинской, указал Вл. Соловьев (ср. его статьи "Судьба Пушкина", 1897 и "Мицкевич", 1899), актуализируя в сознании русского читателя традиционное представление о "чистом" и "тенденциозном" искусстве. В сознании Сологуба эта статья могла соотносится с названием предсимволистского манифеста "Старинный спор" (1884), написанного Н. Минским. Как известно, заглавие этой статьи представляет собой реминисценцию из стихотворения Пушкина "Клеветникам России16. В статье же речь идет о необходимости возвращения русской литературы к "эстетизму" - свободному нетенденциозному искусству, связанному в сознании Минского с именем Пушкина. По-видимому, отсылка к Пушкину в статье Минского носила принципиальный характер: в своей статье он говорит о том, что "эстетизм" в русской литературе в дошестидесятническую эпоху носил характер отрыва искусства от жизни. Наглядной иллюстрацией такого отрыва, по Минскому, было названное стихотворение "эстета" Пушкина, в котором проявляется отсутствие национально-политического свободомыслия. Очевидная отсылка к статье Соловьева (и косвенная - к статье Минского) в тексте "Мелкого беса" рядом с упоминанием Пушкина и пародийно решенной польской темой говорит о том, что Сологуб отнюдь не считает Пушкина нетенденциозным художником. Следует также заметить, что манипуляции Передонова с пушкинским портретом (вынос портрета в "сортир" в связи с "камер-лакейством" Пушкина и возвращение портрета на свое прежнее место) проецируются, возможно, на историю восприятия Пушкина в русском культурном сознании на протяжении всего XIX века, начиная с момента смерти поэта17. Таким образом, Передонов, колеблющийся в своем отношении к Пушкину, оказывается жертвой метаморфоз, происходящих в сознании русской интеллигенции. Каким образом можно объяснить авторские оценки культурного облика Пушкина в романе? В 1907 г. в журнале "Перевал" Сологуб публикует вторую часть своей статьи "Демоны поэтов" под заглавием "Старый черт Савельич". Статья целиком посвящена полемической интерпретации образа Пушкина по отношению не только к символистской критике, но и к некоторым представителям критики XIX века, включая Белинского и Достоевского. Сологуб опровергает сложившийся в сознании русских литераторов и читателей миф о Пушкине как "аполлонически" ясном и гармоничном поэте, художнике-"всечеловеке", наиболее близко подошедшем (по Мережковскому) к осуществлению в литературе "языческого" и "христианского" начал. Так, по Сологубу, "аполлонизм" Пушкина - это, в первую очередь, его собственное представление о себе: "Образ вдохновенного поэта, такой лучезарный, предносился перед ним. <...> образ поэта, - рассеянный, вдохновенный, марает летучие листы, - сколько посидит, столько и напишет, дивная, вдохновенная пишущая машинка, Ремингтон N 9! "стихи для вас - одна забава". Труд поэта сводится к дивному искусству импровизации, сам поэт - "безумец, гуляка праздный"18. Художник, создающий о себе миф, в котором искусство сводится к минутному порыву вдохновения, творчеству, исполненному необыкновенной легкости - это один из мотивов книги Ф. Ницше "Человеческое, слишком человеческое", хорошо известной Сологубу. Как говорит Ницше, художники не просто склонны создавать о себе такие мифы, но и заражать ими восхищающуюся художественными произведениями публику. По Ницше, представление о художнике как только о вдохновенном творце, не прилагающем для создания произведений никакого труда, является одной из дурных мыслительных привычек, ошибок воспринимающего сознания19. Сологуб близок к такому ходу мысли. Пушкин, по Сологубу, склонен к обману, притворству, не только читателя, но и себя самого: "Он чувствовал себя таким как Сальери, прилежным и удачливым работником, а быть хотел таким как Моцарт, безумцем и праздным гулякою. <...> Стоило только раз надеть на себя чужую и ненужную личину, - и уже бес притворства завладел"20 (167). Миф Пушкина о себе как о художнике, обладающем моцартианской легкостью в творчестве, перерастает в миф о гармоничном мире (в терминологии Сологуба, "лирически" воспринятом мире реальной действительности): "И говорит другой голос, с притворным пафосом вещая миру: - Это Дульцинея Тобосская. Слаще мирры и роз благоухания ее уст. "Перстами легкими, как сон", она перебирает шуршащий на серебряном блюде жемчуг. Мне с нею жить. "Хорошо мне, - я - поэт""21. В системе эстетики Сологуба гармоничный мир посюсторонней действительности - это фикция сознания. Подчиняться этой фикции - значит стать жертвой демонической игры принципиально непознаваемой субстанциональной реальности, попасть к ней в рабскую зависимость, принять на себя "чужую личину". Ср.: "Корень притворства и самозванства - в неправом самоотрицании, в ложном самоотречении. Не нравлюсь сам себе, хочу быть другим, лучшим. <...> Да кто же сам-то я, этот маленький я, хотящий быть иным? Не существо ли низшей породы? Не холоп ли, преклоняющийся перед господином?"22. В приведенной цитате речь идет в первую очередь о Пушкине (ср.: заглавие статьи - "Старый черт Савельич", где подразумевается один из персонажей "Капитанской дочки", отождествленный автором статьи с самим Пушкиным, "холопски", по Сологубу, преданный своим господам). Эта характеристика парадоксальным образом близка авторской оценке главного героя романа "Мелкий бес" - Передонова. Фабульное движение романа ведь осуществляется благодаря тому, что Передонов хочет "поменять свою личину" - из ничтожного гимназического учителя превратиться во всемогущественного инспектора, которому покровительствует сама княгиня Волчанская. "Рабская", "холопская" натура Передонова ясна для читателя уже с самого начала романа. Эта достаточно очевидная параллель между Пушкиным и Передоновым заставляет придти к некоторым небезынтересным выводам. В свое время А. Л. Соболев высказал мнение, согласно которому ключевой текст, представляющий в "Мелком бесе" литературную традицию - это "Бесы" Достоевского23. Заглавие романа Сологуба, согласно исследователю, ориентировано на Достоевского и знаменует измельчание "демонического" начала как глубинной характеристики русской действительности. Однако до сих пор не отмечена принципиальная противоположность идеологических позиций Достоевского и Сологуба: для Достоевского "бесовство" - это сущностная, метафизическая характеристика зла. Его преодоление - это приход к сущностной опять-таки религиозной истине. Для Сологуба "демонизм" Передонова и других персонажей романа - это большей частью порождение их собственного сознания. Так, в частности, Передонов мучается в своей жизни от того, что мир непознаваем (страх перед непонятным и поэтому враждебным миром). Утопия Передонова о всемогущей княгине и возможном инспекторстве - это мечта об окончательном жизненном благополучии, которое уже ничем не может быть поколеблено. Мир должен потенциально утратить свою непознаваемость, должен стать проницаемым и ясным. К такой же позиции стремится, по Сологубу, в своем творчестве Пушкин: к гармонизации изображаемой и творимой действительности. Он, таким образом, пытается решить проблему познания действительности, которая принципиально неразрешима. Представители "нового искусства" (особенно это касается последователей философии Вл. Соловьева), объявляющие Пушкина своим непосредственным предшественником, художником культурного "синтеза", отказываются от подлинного новаторства, от эволюции в искусстве, так как для них существует некая конечная точка в эстетической эволюции: сущностная, субстанциональная истина. В этом отношении русские символисты, в глазах Сологуба, продолжают традицию русской литературы XIX века и, в первую очередь, Пушкина и Достоевского. Реминисценции из произведений этих двух писателей и количественно, и функционально занимают в романе центральное место. И Пушкин, и Достоевский занимаются, по Сологубу, созданием эстетических утопий (считают, что зло в этом мире относительно и преходяще) и пытаются не замечать реальных социальных противоречий ("аристократизм" Пушкина, по-разному интерпретировавшийся в русском культурном сознании на протяжении XIX века, и консервативные политические взгляды Достоевского). Как пишет Сологуб в статье "О Грядущем Хаме" (1906), русская литература даже в самых высоких своих образцах всегда была расщеплена на "аристократический" и "демократический" полюса24. Русские писатели, принадлежавшие к первому полюсу, как бы не замечали несвободы в русской социально-политической реальности, пытаясь сконструировать утопическую свободу в художественном тексте. Такое эстетическое поведение кажется Сологубу спекулятивным. Это позволяет заключить, что представление о соотнесенности разных сфер реальности (в том числе реальности художественной и политической), столь наглядно проявившееся в эстетике младших символистов в годы первой русской революции, носило у Сологуба гораздо более конкретный характер, чем, например, у А. Блока, А. Белого или даже Вяч. Иванова. В названной статье Сологуб проводит непосредственную параллель между революционным завоеванием демократических свобод и собственно художественной эволюцией русской литературы. В отличие, например, от Вяч. Иванова, для которого поэту-пророку принадлежит первенство в процессе культурного синтеза (а, следовательно, и в процессе социально-политических преобразований), для Сологуба завоевание политической свободы и эволюция искусства - это два параллельных процесса, один из которых не определяет другого, но, тем не менее, нельзя говорить о свободном искусстве по отношению к социуму, где нет политической свободы. Таким образом, Сологуб не отрицает возможности преобразования реальности литературой, как отмечали исследователи романа "Мелкий бес". Он отрицает такую возможность со стороны литературы, имеющей неверную гносеологическую установку: установку на воспроизведение онтологической картины мира, лишенной противоречий (как у Пушкина) или (как - потенциально - у Достоевского) стремящейся к их снятию, уничтожению. Такая эстетическая позиция русских писателей-классиков (анализ романа показывает, что к уже названным писателям следует присоединить также Тургенева), основанная на эстетическом "обмане", отчасти порождает и соответствующую реальность романа "Мелкий бес", насыщенную призраками, видениями, суеверием, персонажами-оборотнями. Роман "Мелкий бес" - это еще и метаповествование о русской классической литературе XIX века, формирующей ужасную русскую действительность, литературе, центральной фигурой которой является Пушкин. ПРИМЕЧАНИЯ 1 См.: Минц З. О некоторых "неомифологических" текстах в творчестве русских символистов // Блоковский сборник. III. Тарту, 1979. С. 112; Козьменко М. Комментарии // Сологуб Ф. Мелкий бес. М., 1988. С. 291; Пустыгина Н. Символика огня в романе Ф. Сологуба "Мелкий бес" // Блоковский сборник. IX. Тарту, 1989. С. 130; Соболев А. Л. Из комментариев к "Мелкому бесу": "пушкинский" урок Передонова // Русская литература. 1992. N 1. С. 157-160. Назад 2 Сологуб Ф. К всероссийскому торжеству // Мир искусства. 1899. Т. 2. N 13-14. С. 37-40. Назад 3 См. об этом: Минц З. У истоков "символистского Пушкина" // Пушкинские чтения в Тарту. Таллинн, 1987. С. 72-76. Назад 4 Шестов Л. А. С. Пушкин // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 194-206. Назад 5 Неизданный Сологуб. М., 1997. С. 239. Назад 6 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941. М., 1997. Т. 1. С. 86. Назад 7 Пустыгина Н. Указ. соч. С. 130. Назад 8 Сологуб Ф. Мелкий бес. М., 1988. С. 59. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием в скобках страницы. Назад 9 Миллер Вс. Пушкин как поэт-этнограф. М., 1899. Об исследованиях, посвященных поэме "Руслан и Людмила" в 1890-е гг., см.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 358-361. Назад 10 Минский Н. Полн. собр. стих.: В 4 т. СПб., 1907. Т. 3. С. 91. Назад 11 Соболев А. Л. Указ. соч. С. 157. Назад 12 Мережковский Д. Пушкин // Мережковский Д. Эстетика и критика. М., 1994. Т. 1. С. 468. Назад 13 См. об этом: Козьменко М. Указ. соч. С. 290-291. Назад 14 Ср. этимологию фамилии: "верша - рыболовный снаряд из прутьев в виде бутыли, воронки" (Даль В. Толковый словарь: В 4 т. М., 1989. Т. 1. С. 185). В данном случае эта лексема толкуется в значении "капкан", "западня". Назад 15 См.: Пустыгина Н. Указ. соч. С. 134. Назад 16 См. об этом: Минц З. У истоков "символистского" Пушкина. С. 78. Назад 17 Ср. концепцию Пушкина-"аристократа", наиболее последовательно развитую русской радикальной интеллигенцией в 1860-е годы; смещение доминанты в восприятии культурного облика Пушкина в преддверии открытия ему памятника в Москве, когда начинает формироваться образ Пушкина как "отца русского либерализма", по словам обозревателя "Русской мысли"; наконец, юбилейные торжества 1899 г., официально санкционированные правительством. См. об этом: Левит Маркус Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994. Назад 18 Сологуб Ф. Творимая легенда. 2. М., 1991. С. 166. Назад 19 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 563. Назад 20 Сологуб Ф. Творимая легенда. 2. С. 167. Назад 21 Там же. Назад 22 Там же. С. 168-169. Назад 23 Соболев А. Л. "Мелкий бес": к генезису заглавия // В честь 70-летия проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 175-179. Назад 24 Сологуб Ф. О грядущем Хаме // Золотое Руно. 1906. N 4. С. 102-105. Назад * Пушкинские чтения в Тарту 2 . Тарту, 2000. С. 306-321. Назад |