 |
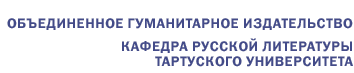 |
|
ПУШКИНСКИЙ МИФ ИВАНА ЛУКАША* ЛЮДМИЛА СПРОГЕ В романе Вл. Набокова "Подвиг" (1932 г.) писатель Сергей Бубнов, "праведно царящий" среди русских литераторов в Берлине, "выслушивал <...> очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременным присутствием Медного всадника) и затем говорил: "Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный"; и, постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом бормотал: "Все это не то, все это не нужно", и удрученно мотал головой, и вдруг с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина, - и, когда однажды молодой поэт, обидевшись, возразил: "То Пушкин, а это я", - Бубнов подумал и сказал: "А все-таки у вас хуже""1. Прообразом набоковского героя послужил Иван Созонтович Лукаш (1892-1940). Не случайно Набоков ввел в сюжет своего романа этот периферийный персонаж в ореоле пушкинского имени и в контексте пушкинских символов. Пожалуй, самой яркой чертой литературного творчества Лукаша стала ориентация на "петербургский миф", его судьбоносный характер в истории России. Формированию этой темы в творчестве писателя способствовали стилизации многочисленных "петербургских историй", уже ранее закрепленных в культурном сознании и поведанных пестрой вереницей разноликих рассказчиков - живых свидетелей петровского, суворовского или пушкинского времени. Именно тогда, в берлинский период жизни Лукаша, столь эскизно зарисованный в романе "Подвиг", в той литературной атмосфере в прозе писателя возник и развился особый интерес к личности Пушкина, к историческому времени его жизни и к житейскому облику поэта2. Рижский период творческой деятельности Ив. Лукаша нельзя назвать продолжительным, вместе с тем эти два года были необычайно динамичными в организации русского печатного дела в Латвии, в создании внушительного числа очерков, рецензий, статей и художественной прозы. Двухгодичный период жизни Лукаша в Риге был весьма нелегким из-за газетно-издательских "битв" в условиях жесткой конкуренции и борьбы за читательский спрос между газетой "Сегодня", с одной стороны, и, с другой, - газетой "Слово" и журналом "Перезвоны", где соредактором и ведущим литературного отдела состоял Лукаш3. В начале и в середине 20-х гг., еще до переезда писателя в Ригу, публикации его произведений находят моментальный отклик в русских газетах Латвии, а весной 1925-го г. редакция "Сегодня" обратилась к Сергею Горному "с просьбой набросать портрет этого молодого писателя". С. Горным был подготовлен "силуэт" писателя Лукаша, где ценностность творческого дара определена лаконично: "настоящий": "Вот в его "стилизованных" исторических вещах - завитки Санкт-Петербургские чугунные - пылание бронзы мастера Фальконета - дымная мастерская, - живые куски не из гравюры, не из старой литографии. Жизнь. Колдовство воскрешения"4. С начала 20-х гг. в русских повременных изданиях Риги появляются типологически близкие друг другу произведения малой художественной прозы, довольно компактные, "портативные", а потому удобные для литературной рубрики в газете. Это произведения с характерным композиционным эффектом - актуализацией образа повествователя, чем обусловливались естественность и "правдоподобие" любой "истории". То, что в романах Лукаша воспринималось рецензентами как "тягучая детализация", "неэкономные отступления"5, становится сознательным приемом. "Прекрасная эпизодичность" утрачивает сюжетную периферийность: локальность эпизода самодостаточна и нарративно завершена, - отсюда микроскопическая сосредоточенность на "вещицах", их "история", их соизмеримость с большим и важным, их таинственное и невидимое бытие в ограниченных или безграничных пространствах, - в сиюминутности и в вечности. Тематизация мифа о жизни и смерти Пушкина актуализирует у Лукаша периферийный сюжет - историю "вещей", "предметов", потерявших хозяина и исчезнувших в хаотичном мире Северной Пальмиры, и далее - в бескрайних пространствах "взвихренной" России. С другой стороны, контуры "пушкинского мифа" у Лукаша, отчасти, восходят к традиции постсимволистской культуры, сюжетно и стилистически сближаясь с прозой Б. Садовского, М. Кузмина, с книгой новелл С. Ауслендера "Петербургские апокрифы", где город "является знаковой моделью не второго, а третьего уровня, в которую в качестве первоэлементов художественной структуры включены вторичные знаковые модели - изображение Петербурга в предшествовавшей литературе"6. В то же время для Лукаша несомненно важна и символистская парадигма многослойных "соответствий", каталогизация петербургских мотивов и бесконечное развертывание мифологической наррации "Медного всадника", а также опыт символистского "пушкинианства". Таким образом нюансируется идея мистической предопределенности рождения и гибели Пушкина, осмысление фатальной предрешенности его жизни и смерти в судьбе России и - шире - в судьбах человечества. В ряде произведений Лукаша важным оказалось настойчивое сопряжение имен Пушкина и Блока - автора "Двенадцати" и речи "О назначении поэта", - испытавшего смертоносность петербургской метели7. В год 125-летнего юбилея, столь значимого для пушкинской темы в творчестве Лукаша, в августовском номере "Слова" появляется посвященный пятилетию памяти А. Блока очерк "Серая Паучиха. Пророчество А. Блока". По мысли автора, среди трагических пророчеств Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Достоевского забыто пророчество А. Блока из "тревожной и смутной статьи" 1906-го года: ""На площади торжествует Серая Паучиха", - писал он тогда, но кому же тогда было понять его. "Мы живем в эпоху распахнувшихся на площадь дверей", - писал он. <...> Он провидел тогда, в 1906 году, свою смерть в петербургской метели... Шатаясь от голода он, один, бродил, вероятно, на том "пустом рынке на петербургской площади, где особенно хмуро поет вьюга". Он знал, что отпылают наши очаги, погаснут наши окна и все исчезнет от нас... И увидел он ту Серую Паучиху, которая мертвецкой паутиной обвесила Россию, иссушила и выпила ее сердце..."8. Далее тема сбывшегося пророчества нюансирует современную историю града Петра, картину современного некрополя, о котором сегодня суждено молчать, лишь припоминая его облики, созданные когда-то Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Мережковским, А. Белым, А. Блоком. Стратегия припоминания развернута в эссе Лукаша "Могильщик Петербурга" (1926 г.), где urbus представлен в стремительной смене литературных эпох:
Так порождаются новые зловещие символы природных и социальных катаклизмов: "жук-часовщик" и "домовой грибок" - невидимые, но осязательно явные р а з р у ш и т е л и петербургской России:
Рассказ "Треуголка Пушкина" был опубликован газетой "Сегодня" в 1925-м году. Показателен эпиграф к нему - стихи из блоковской поэмы "Двенадцать":
Идут двенадцать человек... Характерно моделирование блоковского дискурса в развернутых картинах стихийного "вьюжного" Петербурга с акцентировкой мотивов "грабежа" и "убийства". Блоковские коннотации пронизывают текст рассказа Лукаша, образуя, параллельно поэме, ряды дополнительных и проясненных смыслов с интонированием не выкрикнутого, но подразумеваемого рефрена: "Эх, эх, без креста!" Кощунство и злоба, суд "без имени святого", вершимый лакеем, кучером и беглым крепостным-музыкантом фиксируют наступление хаоса, "нового мира" торжествующего хама:
- Цыц, ступай, - прикрикнул кучер. <...> Проглотил вино, пожевал запалыми губами, выказав в черной, слюнявой дырке рта один коричневый зуб. Усмехнулся: - Поминаете барина... Оно, как говорится, - добродетель и благодарственная слеза.<...> - За упокой души раба Божьего Александра... Ишь, сука, ожгла. <...> Какую должность барин имел? - А и-и-и и не знаю, - пьяно улыбнулся слуга. Сочинитель он Александра Сергеевич... Музыкант хмуро нацедил вина, хмуро выпил: - У тебя сочинитель, чиновник, полагать надобно, а у меня корнет. Все одно - баре. Дворянство, как говорится, российское. <...> Барин подох, ну и подох. А ревешь. Сволочь ты, когда так...11 Основная оппозиция пушкинско-блоковского ареала - поэт и чернь - конституирует сюжетную динамику текста:
На протяжении всего текста все более и более нарочито проступают смысловые обертоны антитезы "поэт и чернь". В то время, когда слуга Алексей поминал барина на треуголку с чужими лакеями, Жуковский "с очень бледным, заплаканным лицом <...> один разбирает при свече бумаги покойного":
Тихонько трогают его Глупцы -
Что хочет, то уносит он: Увядший лист, прах площадной Иль купол...
Мотивы гибели, убийства ассоциативно включаются в картины вьюжного пейзажа (ср.: характеристика поэта перед роковым поединком пронизана медиаторским пафосом, сакрализовано "вслушивание во вьюгу":
или с суггестивацией смертоносных обертонов "метели":
Пьяный дебош послужил лишь прологом к последующему пьяному от крови разгулью, когда сметена была Россия Лукаша:
Потеря бесценных реликвий, потеря России актуализирует художественные поиски родного, "пушкинского" пространства: так появляются балтийские топосы пушкинской темы в творчестве И. Лукаша, это эссе "Земля св. Ольги" (1925 г.) и "Юрьев" (1926 г.). В первом - пушкинские локусы связываются с Аугшпилсом как подобие "исторической декорации" к драме "Борис Годунов":
 pils, на звоннице Вышгородской, в Республике Латвийской, в 1925 году, висит на стропилах древний колокол, - времен Великой Смуты и
Вора Гришки, pils, на звоннице Вышгородской, в Республике Латвийской, в 1925 году, висит на стропилах древний колокол, - времен Великой Смуты и
Вора Гришки,
- и близостью к сокровенной России:
Пушкинский эпиграф к "Юрьеву" указывает на его близость к петербургскому топосу: "Есть на свете город Луга // Петербургская округа..."13. Балтийский локус воспринят в романтическом аспекте отечественной истории:
Цитатный текст "Юрьева" провоцирует калейдоскоп имен пушкинской эпохи, и не случайным становится необычайная встреча:
В год 90-летия со дня смерти Пушкина у Лукаша интуитивно или сознательно возрастает пафос пушкинской темы, новые произведения тематически продолжают или дополняют предшествующие рассказы14. Через десять лет в Париже писатель, как правило, републикует, незначительно изменяя то, что было литературным событием в берлинский и рижский периоды его творческой жизни. Творческим импульсом для Лукаша являлись точки соприкосновения прошлого и современного, поэтому его текст ориентирован на поиски всесвязности исторических явлений, отсюда мифогенность природы его художественного мышления. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. II.C. 251. Об Ив. Лукаше как прообразе беллетриста Сергея Бубнова см.: Чанцев А. Лукаш // Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. М., 1994. Т. III. C. 402. Назад 2 С осени 1922 г. Лукаш входил в число сотрудников берлинского журнальчика "Веретено", а также вместе с Сириным, Сергеем Горным, Вл. Амфитеатровым-Кадашевым, Гл. Струве и др. Состоял членом учредителем литературного сообщества под названием "Братство Круглого Стола". Известен экспромт Сирина, обращенный к кружковцам и передающий некоторые черты творческого облика "братьев":
Твой поэтический Везувий! <...> Большой роман принес Лукаш, А ну, любезнейший, покажь! <...> На голове земли, я, Сирин, Как ухо в небо оттопырен. (Струве Гл. Владимир Набоков по личным воспоминаниям, документам и переписке / Подготовка текста и предисловие Гр. Поляка // Новый журнал. Нью-Йорк. 1992. Кн. 186.С. 184.) С начала 20-х гг., в периоды "софийской" и "берлинской" жизни, Иван Лукаш - достаточно известный автор повестей, романов, сборников рассказов. Отзывы на его произведения появляются в "Звене", "Руле", "Русской", "Рижском курьере", в газете "Сегодня". Среди авторов рецензий и эссе, посвященных его книгам "Голое поле. Книга о Галлиполи", "Дом усопших", "Бел-Цвет", "Черт на гауптвахте" и др. - К. Мочульский, В. Татаринов, Ю. Айхенвальд, С. Горный, Александр Ли (Перфильев). В конце 1925-го г. Лукаш переезжает из Берлина в Ригу, а весной 1927-го уезжает в Париж, где начинается его длительное сотрудничество с газетой "Возрождение". Умирает писатель от тяжелой болезни в Париже в 1940 г., на 48-ом году жизни (см.: "Умер И. С. Лукаш" и некролог Г. Гроссена (Нео-Сильвестра) "Памяти писателя Ивана Лукаша" в "Сегодня". 1940. N 142. С. 6. (23 мая); его же поздние воспоминания "Год работы Ивана Созонтовича Лукаша: Светлой памяти писателя", опубликованные в литературно-политическом журнале "Возрождение". 1966. N 174. C. 113-118). Назад 3 См. об этом: Флейшман Л. Рижская газета СЕГОДНЯ и культура русского зарубежья 1930-х гг. // Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты СЕГОДНЯ 1930-х годов. Stanford, 1997. Кн. I. C. 76; 82-88; 216-217. Назад 4 Горный С. Иван Лукаш. (Силуэт) // Сегодня. 1925. N 78 (5 апреля). Назад 5 Каменецкий Б. <Айхенвальд Ю.> Иван Лукаш. "Бел-цвет". Роман. Книгоизд. "Медный всадник" // Сегодня. 1924. N 22. C. 8. Назад 6 Грачева А. М. К вопросу о неомифологизме в литературе начала ХХ века (Петербургские апокрифы" С. Ауслендера) // Время Дягилева: Универсалии Серебряного века. Третьи Дягилевские чтения: Материалы. Пермь, 1993. Вып. I. C. 163. Назад 7 В рассказе, одноименном с одной из повестей Белкина, "Метель" Санкт-Петербург изображается по принципу реминисцентной поэтики. Метельный вихревой пейзаж корреспондирует с рядом "петербургских текстов":
Темпоральная основа рожденственского сюжета - "с вечера до утра" - изоморфна жизненным фазам повествователя: "в Петербурге, в России" и "без России", а также фазам интенсивности зловещей метели:
Террористический акт в столовой Зимнего дворца в эпоху Александра II рассказан как семейное предание, как память о глухой метели, подобно взрыву, разметавшей по частям света саму память о граде Петра, о России:
8 Слово. 1926. N 231. (8 августа). Лукаш еще раз вернется к статье А. Блока "Безвременье" в 1930-м году, юбилейном для поэта. В рождественском наброске "Вороненок" снова обозначится сопряжение имен Пушкина и Блока:
Спеши, моя краса, Звезда любви златая Взошла на небеса.
Мотив Ворона/Вороненка несомненно связан с пушкинским Пугачевым; в рассказе "Россия" о "непредсказуемом" возвращении эмигранта на Родину, где его ожидает расстрел ("Я понял - заснул в Латвии, меня забыли в вагоне, перевели на советскую границу, и вот я в советской России, в России... В Берлине, Константинополе, в Софии - светлые сны снились о ней и душила тоска... А теперь меня расстреляют. Белый эмигрант... <Слово. 1926. N 209>), ситуация "сна во сне" проецируется на сон Гринева о темнобородом мужике:
9 Слово. 1926. N 105. C. 2. (20 марта). Назад 10 Там же. Назад 11 Сегодня. 1925. N 193. C. 6. (30 августа). Далее текст цитируется по этому источнику. Назад 12 Перезвоны. 1925. N 2. C. 36. В заключение Лукаш призывает к изучению этнографического, фольклорного материала Латгалии:
13 Слово. 1926. N 329. Позднее, в парижский период жизни писатель переименовал "Юрьев" в "Дерпт" и снял эпиграф. Далее текст эссе цитируется по этому изданию. Назад 14 В частности, сюжет пушкинской Москвы, ярко заявленный в рассказе "Дурной арабчонок" (Перезвоны. 1926. N 20), пожалуй, самом мажорном, пронизанном мифопоэтизмами, произведении Лукаша о Пушкине (см. о нем: Мекш Э. Б. "Дурной арабчонок" или "дворянский сын Пушкин" // Филологические чтения: 1996. Сб. памяти В. С. Белькинда. Даугавпилс, 1998. С. 87-92) продолжен в "Московской просвирне" (1927 г.). Юбилейная статья "Наш щит - наше солнце" (1927 г.) имплицитно репрезентирует серию пушкинских мотивов Лукаша 1925-1926 г. Стоит отметить и такой факт, как "включение" пушкинских локальных коллизий в сюжеты произведений 1926-1927 гг. См.: "Не вечерняя" // Перезвоны. 1926. N 21. C. 655-661. Назад * Пушкинские чтения в Тарту 2 . Тарту, 2000. С. 331-343. Назад
|