 |
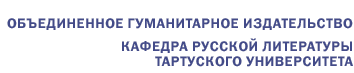 |
|
Н. С. ЛЕСКОВ В ОЦЕНКЕ МЕРЕЖКОВСКИХ* ЛЕА ПИЛЬД Среди исследователей русского символизма установилось твердое и в целом справедливое мнение о том, что для представителей "нового искусства" Н. С. Лесков был маргинальной фигурой и привлекал интерес тех авторов, которые хоть и были связаны с символизмом, но организационно к нему не принадлежали (М. Кузмин, А. Ремизов)1. Такая точка зрения, однако, несколько ограничила решение темы "Лесков и русские символисты". Так, например, до сих пор не проанализированы причины обращения к творчеству и личности Лескова А. Волынского. Волынский - один из лидеров формирующегося русского символизма в 1890-е гг. и автор первой монографии о Лескове2. Упоминает о Лескове в 1890-е гг. и Д. С. Мережковский в своей книге "О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы" (1893). При этом обращает на себя внимание сама форма этого упоминания и контекст писательских имен, в который включен Лесков. О Лескове говорится в разделе под заглавием "Современное литературное поколение", однако не в основном тексте, а в подстрочном примечании, набранном мелким шрифтом. Лесков упоминается наряду с авторами, которых современная критика считала писателями "второго" или даже "третьего" ряда (П. Боборыкин, М. Альбов, И. Ясинский). Все это заставляет предположить, что Мережковский солидарен с теми литературными критиками, которые не очень высоко оценивают талант Лескова. Вместе с тем, оценка, которая дана писательскому мастерству Лескова как бы противоречит описанным выше "композиционному" и "контекстуальному" рядам: "<...> г. Лесков <...> огромный талант-самородок, вечно неожиданный, оригинальный, близкий к духу народа, он слишком мало оценен нашей поверхностной критикой. Его мистические легенды из "Пролога" очаровательны. Какая неувядаемая свежесть, какая наивная и младенческая грация!"3 Приведенная цитата свидетельствует о том, что Лесков привлекает Мережковского не только как автор стилизованных легенд из Пролога, не только как художник, ориентированный на поиски нового религиозного мышления, но (и это, видимо, самое главное) как писатель, близкий духу народа, - "самородок". Это определение имеет цитатное происхождение и принадлежит самому Лескову. Как известно, Лесков утверждал, что у него есть право "творить предание, как у писателя- самородка, естественно владеющего принципами народного творчества"4. О том, что такое (и схожие с ним) заявления были сознательной мистификацией читателя, уже неоднократно писатели исследователи творчества Лескова5. Можно, однако, только предположить, каково было отношение Мережковского к этому высказыванию, поскольку мы не располагаем развернутыми свидетельствами Мережковского по интересующему нас вопросу. Еще А. Н. Лесков, сын писателя, убедительно показал в биографическом исследовании об отце, что тот на протяжении всей своей жизни крайне болезненно переживал свою так называемую "необразованность" (отсутствие не только высшего, но и законченного гимназического образования)6. Объявление себя "самородком" - это не просто декларация особой эстетической позиции, но еще и психологический жест, призванный отделить его, Лескова, от высокообразованной писательской элиты (при этом известно, что Лескову были присущи и обратные жесты: например, противопоставляя И. С. Тургенева всем другим русским писателям по уровню образованности, он как бы ставил под сомнение и "культурность" остальных). Вероятно, и Мережковский осознавал сложную природу социо-культурного самоопределения Лескова, но в приведенном выше высказывании ирония или какая-либо двусмысленность отсутствуют. Для Мережковского, по-видимому, важно декларировать, что Лесков не просто представляет народную точку зрения в своих произведениях, но и сам к этой народной среде принадлежит. Доказательство такого предположения мы находим в более поздних, преимущественно художественных, произведениях не только Мережковского, но и З. Н. Гиппиус. О том, что Лесков становится актуальным для Мережковских в начала века в связи с их религиозными исканиями, мы можем судить, хотя и по крайне немногочисленным, но все-таки, с нашей точки зрения, значимым упоминаниям Лескова и цитатам из его текстов в творчестве Гиппиус и Мережковского. Так, например, в первом и втором номерах журнала "Новый путь" за 1904 год обращение к Лескову встречается трижды. Журнал открывается публикацией отрывков из записной книжки Достоевского, которые не были включены в собрание сочинений писателя. Обращает на себя внимание следующий отрывок: "Лесков. Специалист и эксперт в православии"7. Эта запись в сознании компетентного читателя (очевидно, что такими читателями Достоевского были Мережковские) вызывает острую и желчную полемику между Лесковым и Достоевским в 1870-е гг.8 Суть полемики, как известно, сводилась не только к расхождению в эстетических принципах, но и в религиозных вопросах. Лесков не принимал ортодоксального православия Достоевского и, вместе с тем, считал его некомпетентным в вопросах народной веры (об этом он говорит наиболее отчетливо в более поздней статье "О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом", 1886)9. Достоевский иронизировал над невежественным, с его точки зрения, в вопросах религии и церковной истории Лесковым и сомневался в подлинности его религиозных чувств. Внимание Мережковских могло привлечь лесковское обвинение Достоевского в "мистическом народничестве" (то есть, по сути дела, абстрактном, отвлеченном отношении к народной религиозности). Напомним, что в книге "Лев Толстой и Достоевский" Мережковский концепцию "новой религиозности" Достоевского выводит из его художественных текстов. Достоевский, по Мережковскому, понимал не только противоречия интеллигентского религиозного сознания (Раскольников, Иван Карамазов, Версилов), но и народного (Орлов в "Записках из мертвого дома"). Понимание народной религиозности было бессознательным, художественно-интуитивным10. В публицистике своей Достоевский противоречия народного религиозного сознания сглаживал. Достоевский осознавал, что постичь религиозное сознание можно только символически. Отсюда его интерес и доверие к легендам, мифам, снам, в которых проявляется подлинная религиозность. Вместе с тем, Мережковскому, по-видимому, уже в это время было ясно, что существует неразрешимое противоречие между Достоевским-художником ("пророком", провозвестником новой религии и новой действительности) и Достоевским-публицистом (его крайний консерватизм в конфессиональной сфере): "Главною точкою опоры для сознания Достоевского среди его собственных религиозных сомнений и колебаний служило это именно нерушимое, будто бы в лице русского народа - "богоносца", единство Лика Христова. "Русский народ", - говорит он, - весь в православии - более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что православие все". Действительно ли, однако, Достоевский так твердо был уверен в этом, как с первого взгляда может казаться, как ему самому хотелось, чтобы казалось?"11. Достоевский в сознании Мережковских примыкал к тем русским писателям, которые лишь декларировали знание народной религиозности, на самом же деле имели о ней только умозрительные представления. Абстрактность, "книжность" отношения русской интеллигенции к вопросам народной веры - один из ведущих мотивов в очерках Гиппиус "Светлое озеро", опубликованных в упомянутых номерах "Нового пути" за 1904 год (ср., напр.: "Нам вспомнились "интеллигенты", идущие к "меньшим братьям", занятые тем, чтобы одеться "как они", есть "как они", рубить дрова "как они" и верящие, что это путь к слиянию". <...> А наши писатели "народные" - Успенский, Короленко, Решетников, Златовратский и другие - не о брюхе ли народном прежде всего они думали, не страдали ли жалостью, не будили ли жалость в читателях?"12). В очерках Гиппиус ничего не говорится о Достоевском, хотя, как нам хорошо известно, Достоевский для Мережковских представлялся наиболее значительной фигурой в русской культуре именно в качестве провозвестника новой религии. По-видимому, это умолчание следует считать значимым. Если полемика с Толстым и его "безрелигиозностью" присутствует в очерках открыто, то полемический пласт, направленный против Достоевского, является имплицитным. Отсылка к Лескову и его текстам и становится таким своеобразным, с нашей точки зрения "замещением" прямой полемики с Достоевским. Фамилия Лескова появляется в тексте в разговоре рассказчика (то есть самой Гиппиус) с его "спутником" (Мережковским). Разговор происходит перед поездкой на службу в ростовскую церковь Святого Духа: "Я, конечно, в восторге, поеду непременно, - но спутник мой, расстроенный перспективой непременного возвращения в Петербург, капризничает: "Нет, нет, я не поеду. Только усталость. В сущности - это абсолютно неинтересно. Уговариваю. Мой спутник насмешливо протестует: "Что же, ты хочешь в выдающемся роде помолиться?" Побеждаю, однако, и Лескова"13. Приведенная цитата отсылает к повести Лескова "Полунощники" (1891), опубликованной в "Вестнике Европы" и вызвавшей большой резонанс в критике. В частности, "Северный вестник", в котором в 1890-е гг. сотрудничали Мережковские, дал о повести положительный отзыв14. Цитата обыгрывается в работе Волынского о Лескове, которая в 1896 году публиковалась на страницах "Северного вестника", а затем вышла отдельной монографией. Волынский писал: "<...> кроме того, в бесконечно растянутом рассказе постоянно повторяются некоторые обороты речи, которые сначала кажутся колоритными в бытовом отношении, но встречаясь в сотнях сочетаний, досаждают как неотступные осенние мухи: "постанов вопроса", "странно выдающийся багровый нос", "самое выдающееся первое благословение", "в выдающемся роде помолиться", "дурак выдающийся" и т.д."15. Лесковская цитата в тексте Гиппиус знаменует довольно непростое отношение автора очерков "Светлое озеро" к цитируемому писателю. На поверхности Гиппиус вслед за Волынским иронизирует над стилем Лескова. Более глубокий смысл цитаты раскрывается в ее сопоставлении с одним из идейных аспектов очерков, который восходит к Достоевскому. В повести Лесков противопоставляет "православно ориентированных", жаждущих помощи от известного священника (прототипом которого послужил Иоанн Кронштадтский), но, по сути дела, безнравственных и неумных героинь - героине, далекой от церковного православия, проповедующей практическую религию, основанную на деятельном сострадании к ближним. Образ "популярнейшего священника" о. Иакова отсылает не только к Лескову, но и одновременно к трем персонажам Достоевского - Макару Долгорукому в "Подростке", старцу Зосиме и Алеше Карамазову в "Братьях Карамазовых". (Ср. у Гиппиус: "Вышел веселый старичок с розовым лицом и гладкими волосами. Голова непокрытая, ряса бархатная"16; "А он, гладенький, голубоглазый <...> и быстрый старичок <...> он весь светится, <...> голубыми, - как небеса утром, - глазами, и свежими - и ясными. И весь он - подлинный. Подлинно проницаемый - для старого и малого, - чтобы приблизиться к Вечному"17; "Блажен о. Иаков, весь светлый и простой, как просты те дети, которые идут к нему со своим страданием! "Если не обратитесь и не будете, как дети"... А им не нужно, нельзя "обратиться": они и так дети. И так кротки, как голуби... Но только не мудры, как змии" <курсив здесь и далее мой. - Л. П.>)18. Приведенные цитаты представляют собой контаминацию характеристик, которые даны Достоевским обозначенным выше трем персонажам. И Зосима, и Макар Долгорукий, и Алеша Карамазов являются у Достоевского героями, в которых воплощена религиозная (то есть православная) истина. Эта истина дана им "до мысли". Так, например, называя "краснощекого" Алешу "реалистом", рассказчик в "Братьях Карамазовых" говорит: "В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо"19. Алеша чудо допускает, старец Зосима "исцеляет" (то есть творит чудеса), а Макар Долгорукий, хоть и верит в достижения наук, все-таки истинную веру обретает спонтанно (то есть без посредства мысли). Гиппиус же подчеркивает детскую беспомощность толпы, которая слепо верует в "чудо", и в священника как посредника между верующей толпой и Богом, в глазах "толпы" это чудо воплощающее. И толпа, и священник в глазах Гиппиус обречены, потому что не думают и поэтому не сомневаются в простоте и доступности религиозной истины. Следует полагать, что изменение трактовки творчества Достоевского после 1905 г. произошло у Мережковских не на пустом месте и подготавливалось исподволь. Конечно же, приверженность Достоевского ортодоксальному православию не удовлетворяла их уже давно. Неудовлетворенность религиозными взглядами Достоевского усилилась в период повышенного интереса к народному сектантству и раскольникам. Обращение к Лескову в очерках Гиппиус - это отсылка к литературной традиции, наиболее близкой автору. В тех же номерах "Нового пути" публикуются очередные главы романа Мережковского "Антихрист (Петр и Алексей)". В главе "Дневник царевича Алексея" находим реминисценцию из рассказа Лескова "На краю света" (1875). Отсылка к Лескову возникает в размышлениях фрейлины Арнгейм о царевиче Алексее: "Он говорил о Христе так, как, я заметила, здесь говорят о нем самые простые люди - мужики: точно Он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик"20. У Лескова об изображении Христа древнерусскими иконописцами рассуждает архиерей: "Просто - до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он правда <...> Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек..." (V; 455). В книге "Лев Толстой и Достоевский", где Мережковский дает высокую оценку Достоевскому и называет его религиозным пророком, намечено противопоставление между персонажами-интеллигентами и народными героями в романах Достоевского. Мережковский замечает, что движение к новому религиозному сознанию у русских интеллигентов Достоевским понято не только художественно (интуитивно), но и аналитически. Трансформации сознания народных героев представлены в художественных символах. Достоевский гениально постигает, то, что происходит в народном сознании, но при этом как бы недостаточно знает реальные жизненные факты. Очевидно, что эта точка зрения на народных персонажей Достоевского очень далека от воззрений самого автора "Преступления и наказания" на собственное творчество. Но она сильно напоминает позицию Лескова в его известном литературно-критическом споре с Достоевским в 1870-е годы. Как известно, Лесков в ответ на критику "Запечатленного ангела" (1873) Достоевским обвинил последнего в не знании церковного быта и народной духовной культуры. В более поздней статье Лескова "О куфельном мужике..." Достоевский был противопоставлен Толстому как носитель абстрактно-мистического взгляда на народную религиозность. Следует думать, что такой взгляд на Достоевского был отчасти близок Мережковскому, всю жизнь страдавшему от упреков в книжности и мистических абстракциях. В начале века и Мережковский, и Гиппиус стремились обрести прочную практическую связь с народной религиозной средой. Стремились они и к преодолению книжности в художественном творчестве, в частности, при обрисовке персонажей, сопряженных, подобно царевичу Алексею, с народной религиозной культурой. Изображая в "Антихристе" царевича Алексея, Мережковский явно стремился наделить этот образ некоей жизненной конкретностью - изобразить реальную связь царевича не только с народной идеологией, но и с народным бытом. Непосредственная связь царевича с бытом допетровской эпохи рельефно обрисована в главе, посвященной его воспитанию. Изображая в романе многостороннюю и мучительную для него самого деятельность царевича, Мережковский подчеркивает, что царевич гораздо лучше, чем Петр знает и понимает российскую жизнь, потому что видит как "старое" сталкивается с "новым", в чем особенности старой, допетровской эпохи и почему они не могут быть преодолены быстро и насильно, как того хотел Петр. О непосредственной связи царевича с народной религиозностью, в частности, говорит и проекция царевича Алексея на Алексея человека Божия21. Здесь следует видеть не только отсылку к Алеше Карамазову и через посредство этого образа к Алексею человеку Божию, значимому для романа Достоевского. Как известно, для Лескова этот житийный персонаж неизменно связывался с народными представлениями о подлинной христианской нравственности. Алексея человека Божия Лесков считал одним из исторических предшественников толстовской практической этики. В глазах Лескова этот святой символизирует практическое религиозное делание22. Эта же реминисценция из рассказа "На краю света" фигурирует и в более позднем романе Гиппиус "Чертова кукла" (1911). Знаменательно, что само заглавие романа - лесковское. Оно представляет собой немного измененное название незаконченного романа Лескова "Чертовы куклы" (1890). Роман Гиппиус посвящен занимавшим в это время Мережковских проблемам "религиозной общественности". Лесковская цитата появляется в главе, где описывается заседание общества "Последние вопросы". Посредством названной цитаты характеризуется носитель народной "правды", укоряющий интеллигентов (литераторов и философов), а также духовенство за многословие в той исторической ситуации, когда новые мысли и, следовательно, новые слова пока еще не появились ("не приспели"). Этот персонаж характеризуется повествователем так: "Поднялся молодой или моложавый человек с простым-простым мужиковатым лицом, довольно приятным и острыми глазами"23. Здесь мы встречаемся с уже знакомым нам противопоставлением народной (жизненной, конкретной, ориентированной на Христа) правды и интеллигентского абстрактного (безрелигиозного по сути) отношения к современной исторической ситуации. Однако контекст обращения к Лескову осложняется здесь тем, что Гиппиус явно обращает внимание на принципы поэтики антинигилистических романов Лескова. Известно, что в конце 1900-х - 1910-е годы, Гиппиус пропагандирует создание идеологически тенденциозных текстов, как бы освобожденных от излишней "эстетики"24. По-видимому, антинигилистика Лескова представляет в ее сознании тип тенденциозного (идеологического, то есть "общественного") романа, не являющего особой художественной ценности. При этом любопытно, что в своих литературно-критических статьях она положительно оценивает писателей второго ряда второй половины ХIХ в.: "Я люблю средних, старых, русских писателей. Тех, впрочем, которые давно уже стоят в переплете на полках;.. Хорошо иногда взять Мельникова, Писемского, Дружинина, даже Хвощинскую - заняться ими часок"25. Некоторые из перечисленных здесь фамилий, составляли постоянное соседство с фамилией Лескова в рецензиях многих критиков последней трети ХIХ века. Лескова Гиппиус не называет, скорее всего, по тем же причинам, почему отсутствуют эксплицитные высказывания о Лескове в предшествующих текстах Мережковских. Для русских символистов явно существовали целые пласты в литературной традиции, которые они активно и вдумчиво осваивали, но по целому ряду причин не включали результаты своих размышлений в теоретические манифесты и литературно-критические статьи. Собственно результаты такого освоения Лескова присутствуют только в художественных текстах Мережковских. Лесков не исчезает в этот период и из прозы Мережковского. Так, в романе "Александр Первый" мы встречаем отсылки, по крайней мере, к двум произведениям Лескова. Это - "Зверь" (1883) и "Привидение в Инженерном замке" (1882). Оба рассказа в составе цикла "Святочные рассказы" были включены писателем в 7-ой том "Собрания сочинений" (том вышел в 1889 г.). Реминисценция из рассказа "Зверь" становится в романе Мережковского устойчивым лейтмотивом, прикрепленным к одному персонажу - Аракчееву. (Ср. у Мережковского: "Закрыв глаза, представил себе, как она целует его за галстук и подбородок, в самую ямочку. Задремал; послышалась музыка ветра в эоловой арфе на одной из грузинских башен, и в этой музыке - баюкающий голос Настеньки: "Почивайте, батюшка, покойно - вашему слабому здоровью нужен покой..."")26. (Ср. также: "В центре Грузинской вотчины, в деревне Любуни, на пригорке стояла башня, наподобие каланчи пожарной. Отсюда было видно все, как на ладони. На верхушке башни - золотое яблоко, сверкавшее, как огонь маяка, и Эолова арфа с натянутыми струнами, издававшими под ветром жалобный звук"27; "А на Эоловой арфе струны гудели жалобно и, казалось, плачет в них душа Капитона Алилуева вместе с душами всех замученных: "Антихрист пришел!""28.) У Лескова эолова арфа находится на башне в имении известного своими изощренными жестокостями помещика: "<...> наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть была устроена так называемая "Эолова арфа". Когда ветер пробегал по струнам этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в беспокойные нестройные стоны... В доме все не любили эту арфу и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не смеет ей возражать, но от этого становится еще немилосерднее и жесточе...." (VII; 261). В обоих текстах (хотя у Лескова и менее явно) арфа как бы обличает героя. Возможно, что другой цитируемый Мережковским текст - "Привидение в Инженерном замке" каким-то образом соотносился в сознании автора романа со "Зверем". Отсылку к "Привидению в Инженерном замке" находим в конце первой части романа: "А в это же время по темным залам дворца пробиралась женщина в сером платье, в сером платке, на лицо опущенном, похожая на изваяние древних плакальщиц или надгробный памятник. В ее движениях видно было то, что она сама о себе говорила: "Я всю жизнь пробиралась по стенке". Так и теперь пробиралась по стенке, крадучись, как воровка, которая боится быть пойманной или привидение души нераскаянной"29 (здесь речь идет об императрице Елизавете Алексеевне). (Ср. у Лескова: "Привидение не было мечтою воображения - оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им "таинственной женщины" <...> Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми <...> У видения были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки" - VII; 122.) В рассказе Лескова речь идет о вдове только что умершего генерала Ламновского, которая приходит к гробу горячо любимого супруга и смертельно пугает кадетов, принявших ее за легендарное привидение павловского замка. В глазах рассказчика вдова генерала символизирует "совесть" (ср. "серый человек" - "совесть"); именно после этого случая, по его словам, таинственные явления привидения в Михайловском замке прекратились. "Серый" цвет, характеризующий императрицу Елизавету Алексеевну в романе Мережковского (столь же преданную своему супругу, как и вдова в рассказе Лескова), косвенно отсылает к лесковскому мотиву совести и связанному с ним "окончанию" кошмара в замке Павла I. Вспомним, что реминисценция из рассказа Лескова "Зверь" актуализировала мотив вины Аракчеева. Реминисценция из другого рассказа Лескова как бы намекает на возможное преодоление исторической вины России (напомним, что трилогия Мережковского, в состав которой входит роман "Александр Первый", называется "Царство Зверя") посредством личного (любовь) или коллективного духовного усилия. В романе "Александр Первый" Мережковский вслед за Анри Бергсоном утверждает, что история состоит не из "внешних" фактов и событий, а событий, принадлежащих внутреннему, психологическому опыту. Поэтому, чтобы понять подлинный смысл заповеди "не убий" и невозможность убийства, нужно все это лично пережить, как пережили декабристы саму идею убийства и ее попытку реализовать в действительности. Вслед за этим переживанием в коллективный исторический (психологический) опыт постепенно начинает внедряться мысль о невозможности убийства. Все эти мысли Мережковского близки идеям позднего Лескова о личном нравственном совершенствовании, которое не исключает, а предполагает широко понятую религиозность вплоть до межконфессиональной ее трактовки (ср. принадлежность многих декабристов - героев романа Мережковского - к самым различным конфессиям). ПРИМЕЧАНИЯ 1 См. об этом, например: Лавров А., Тименчик Р. "Милые старые миры и грядущий век". Штрихи к портрету М. Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. С. 4; Данилевский А. "Пятая язва" А. М. Ремизова в контексте литературной традиции // Тезисы докл. конф. по гуманит. и ест. наукам СНО. Русская литература. Тарту, 1985. С. 28-34. Назад 2 Волынский А. Н. С. Лесков. Пб., 1923. Назад 3 Мережковский Д. Эстетика и критика. М., 1994. Т. 1. С. 211. Назад 4 Цит. по: Евдокимова О. В. Н. С. Лесков и Ф. И. Буслаев // Русская литература. 1990. N 1. С. 197. Назад 5См., напр.: Майорова О. Н. С. Лесков: структура этноконфессионального пространства // Тыняновский сборник. Вып. 10. Шестые-Седьмые-Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 119. Назад 6 Ср., например: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981. С. 68. Назад 7 Новый путь. 1904. N 1. С. 2. Назад 8 См. об этом: Достоевский Ф. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. ХХI. С. 432. Назад 9 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 134-157. В дальнейшем тексте ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома и страницы. Назад 10См.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 214-216. Назад 11 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. С. 215. Назад 12 Новый путь. 1904. N 1. С. 177. Назад 13 Новый путь. 1904. N 2. С. 41. Назад 14 Северный вестник. 1892. N 1. Назад 15 Волынский А. Н. С. Лесков. Пб., 1923. С. 173-174. Назад 16 Новый путь. 1904. N 2. С. 41. Назад 17 Там же. С. 43. Назад 18 Там же. С. 46. Назад 19 Достоевский Ф. Там же. Т. ХIV. С. 24-25. Назад 20 Мережковский Д. Антихрист. М., 1993. С. 119-120. Назад 21 См. об этом, напр.: Ильев С. П. Эволюция мифа о Петербурге в романах Дмитрия Мережковского ("Петр и Алексей") и Андрея Белого ("Петербург") // Д. С. Мережковский. Мысль и слово. М., 1999. С. 63-64. Назад 22 См. об этом: Лужановский А. Неопубликованная статья Н. С. Лескова о толстовском учении // Русская литература. 1965. N 1. С. 165. Назад 23 Гиппиус З. Чертова кукла // Гиппиус З. Опыт свободы. М., 1996. С. 185. Назад 24 См. об этом, напр.: Лавров А. В. З. Н. Гиппиус и ее поэтический дневник // Гиппиус З. Стихотворения. СПб., 1999. С. 56-57. Назад 25 Крайний А. О литературной прозе // Русская мысль. 1910. N 11. С. 179. Назад 26 Мережковский Д. Александр Первый. Тула, 1993. С. 43. Назад 27 Там же. С. 187. Назад 28 Там же. С. 188. Назад 29 Там же. С. 71. Назад
* Блоковский сборник XV. Тарту, 2000. С. 76-89. Назад К оглавлению сборника |