 |
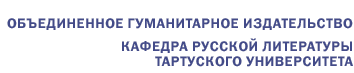 |
|
БРЮСОВ КАК РИМЛЯНИН В "ГЕРОЕ ТРУДА" РОМАН ВОЙТЕХОВИЧ Эссе Цветаевой "Герой труда" (1924) еще не получило в исследовательской литературе монографического описания. В двух известных нам работах подход либо слишком общий, либо слишком специальный1, поэтому ряд важных тем эссе еще не освещен. Мы предлагаем проанализировать истоки и структуру "римской" темы эссе, которая занимает высокое место в тематической иерархии "Героя труда", но еще ни разу не становилась предметом специального рассмотрения. Истоки "римской" темы эссе изучены так же слабо, как и литературные источники "Героя труда" вообще. В письмах Цветаева отстаивала независимость своих построений: "Зная, что буду писать, ни Ходасевича, ни Гиппиус, ни Святополка-Мирского не читала"2; "Писала, увы, без источников, цитаты из памяти. Но, м.б. лучше, - мог бы выйти целый том" (VI, 339). Тем не менее, некоторые претексты эссе известны. Е. Б. Коркина называет статью Андрея Полянина (Софьи Парнок) "По поводу последних произведений Валерия Брюсова (Семь цветов радуги. Египетские ночи)", опубликованную в первом номере "Северных записок" за 1917 год. "Психологический портрет Брюсова в этой статье Парнок очень схож с цветаевской трактовкой образа поэта <...>, - пишет Коркина. - Влияние статьи на очерк (и шире - литературной позиции Парнок на самоопределение Цветаевой) кажется нам несомненным"3. Статья Парнок не проясняет вопроса о происхождении "римской" темы у Цветаевой, но в ней мы находим источник многих мотивов, так или иначе ассоциирующихся у Цветаевой с "римской" темой и сконцентрированных преимущественно в "теоретических" частях эссе. "Вышло, как всегда, впятеро длинней, чем думала, - пишет Цветаева, - вместо анекдотических записей о Брюсове-человеке - оценка его поэтической и человеческой фигуры с множеством сопутствующих мыслей" (VI, 339). Но "анекдотические записи" никуда не делись, они составляют фабульное (собственно мемуарное) ядро "Героя труда" - семь глав, обрамленных тремя главами, в которых и сконцентрировано все "множество сопутствующих мыслей", в том числе и те, которые восходят к Парнок. Основной тезис Парнок: Брюсов - Сальери, "для которого Моцарт - опасность гения - скрыт даже в футуристе" (СП, 78). "Сальерианство" Брюсова - устойчивая характеристика его творческого и индивидуального облика. Об этом писали А. Бурнакин, Ю. Айхенвальд, В. Ф. Ходасевич и Цветаева в разбираемом эссе; у самого Брюсова авторефлексия на тему "сальерианского" мифа, отобразилась, вероятно, в неопубликованной при жизни повести "Моцарт" (1915 г.)4. К этому основному тезису Парнок примыкают и другие, отразившиеся у Цветаевой. Во-первых, блок тезисов, характеризующих отсутствие 'гениальности' в стихах Брюсова: тезис об их "музыкальной беспомощности" (СП, 75), о том, что они созданы без "внутренней необходимости" (СП, 80), что они переполнены "школьной" эрудицией (СП, 79), предсказуемы (СП, 79) и риторичны (СП, 74), созданы "из чистейшего "ничего"" (СП, 78). О риторичности брюсовских творений еще раньше писал В. Буренин, назвавший Брюсова "великим ритором"5, что позднее отразится у Цветаевой и приобретет "римскую" окраску. Подраздел этого комплекса характеристик поэта составляют тезисы, толкующие (отчасти иносказательно) отношения Брюсова с "духовными" сущностями: Брюсов убеждает читателя, что "в душе" его "кипит избыток и новых рифм и буйных слов" (СП, 81), но сам в это не верит: "алхимик еще вызывает ангелов и демонов", но "огонь горна погас" (СП, 83); Брюсов лишен власти над душами, и в "Памятнике" его "слово "душа" встречается только один раз и в роковой для автора комбинации:
Другой комплекс тезисов Парнок характеризует стремление Брюсова волевым усилием и трудом преодолеть отсутствие 'гениальности' (СП, 77, 79). Парнок даже признает, что Брюсов "умел принуждать свою мечту к подлинному творчеству" (СП, 77). Но он - лишь "сумасшедший актер", играющий роль "великого поэта" (СП, 79). И в этом она видит его оправдание: "Все приметы того, чего стараются теперь не видеть, или прощают Брюсову его поклонники", с чисто художественной точки зрения - "прекрасны в своей законности". "...Какой-нибудь потомок разыщет его жизнеописание и восхитится безнравственным восхищением художника" (СП, 78); "нужно помнить только одно: Брюсов не человек, а образ" (СП, 84). Цветаева развивает последний тезис Парнок, исследуя миф, созданный Брюсовым о себе. Но, кажется, еще больше она сама творит миф о Брюсове. Вместо относительно ограниченного круга сравнений, предложенного Парнок, мы находим у Цветаевой целый калейдоскоп образов. Происходит включение специфических, по Р. О. Якобсону, семантических механизмов, свойственных поэзии: преобразование метонимий в метафоры. Образ "мечты" Брюсова, "верного вола", сливается с образом носителя этой мечты, и Брюсов превращается в "вола". Точно так же он сам становится олицетворением "воли", а затем оборачивается "волком". Это как бы корневое склонение (по Хлебникову) имени Валерий, где те же "в" и "л", что и в перечисленных метафорах. "Волк" - богатая метафора, характеризующая и внешний и внутренний облик Брюсова. Вопрос о предшественниках Цветаевой, использовавших анималистические сравнения при описании брюсовской внешности, еще не поднимался. Но он важен, представляя интерес еще и потому, что помогает установить источник "римской" темы в "Герое труда". В свое время на выход первого тома "Путей и перепутий" (1907) Брюсова откликнулся Волошин одним из очерков своей серии "Лики творчества"6. Очерк имел скандальный резонанс, основной причиной которого было использование в нем фрагментов мемуарного характера7. Брюсов написал открытое письмо Волошину, которое было опубликовано вместе с ответным письмом самого Волошина. Мотив зооморфности в описании своей внешности, самый скандальный в очерке, Брюсов не отметил, кажется, только потому, что это было частным моментом того, против чего он возражал в целом (курсив мой. - Р. В.): "Волосы и борода были черны. Лицо очень бледно, с неправильными убегающими кривизнами и окружностями овала. Лоб скруглен по-кошачьи. Больше всего останавливали внимание глаза, точно нарисованные черной краской на этом гладком лице <...>. Когда он улыбался, то большие зубы оскаливались яростно и лицо становилось звериным. <...> У Брюсова лицо человека, затаившего в себе великую страсть. Это она обуглила его ресницы, очертила белки глаз, заострила уши, стянула сюртук, вытянула шею и сделала хищной его улыбку"8. В статье Андрея Белого, вошедшей, позднее в сборник "Луг зеленый" (1910) в описании брюсовского облика тоже проскальзывают анималистические сравнения: "Благородный высокий лоб, то ясный, то покрытый легкими морщинами, отчего лицо начинает казаться не то угрюмым, не то капризным. И вдруг детская улыбка обнажает зубы ослепительной белизны. То хищная черная пантера, то робкая домашняя кошка"9. Мотив "пантеры" у Белого - сквозной, но это сравнение "импрессионистическое", в отличие от детального "анатомического" описания Волошина. Кроме того, мотив "пантеры" перекликается с другим сквозным мотивом Белого - мотивом "гибкости" Брюсова (душевной и физической 'грации'). У Волошина "кошачий" мотив связан только с мотивом округлости "лба", акцентирующим сему 'жесткости', 'твердости'. Это мы находим и у Цветаевой: постоянное подчеркивание "негибкости" Брюсова, в том числе и седого ежика его негнущихся "волчьих" волос. С той же 'негибкостью' связано у Волошина и рассуждение о пристрастии Брюсова к Риму и 'римских' качествах его души. Оно перекликается с зооморфными элементами в описании его внешности: "У Брюсова лицо человека, затаившего в себе великую страсть. Это она обуглила его ресницы, очертила белки глаз, заострила уши, <...> и сделала хищной его улыбку. <...>. Страсть изваяла его как поэта, опасная страсть, которая двигала Наполеонами, Цезарями и Александрами, - воля к власти" (ЛТ, 407-408). Волошин пересказывает одну из своих бесед с Брюсовым, в которой Брюсов признается в своей привязанности к Риму. Выводы, которые делает из этого признания Волошин, значительны: "Знаменательна эта привязанность Брюсова к Риму. В ней находим мы ключи к силам и уклонам его творчества. <...> Брюсов всегда предпочтет бой гладиаторов в Колизее зрелищу трагедии Софокла в театре Диониса. <...> Но он может высокой дугой вознести свой стих - вечный, как римский свод. <...> Но в императоре, гранящем свои законы на бронзовых таблицах, живет грубый солдат-легионер. Отсюда, даже в самых совершенных произведениях его, то особое отсутствие художественного вкуса, то особое римское безвкусие <...>. Отсюда и то замечательное явление, что в понимании любви он не может стать выше центуриона, приехавшего в Рим из далекого лагеря <...> Тот же римский дух сказывается в его литературных отношениях, в его борьбе за первенство в русской поэзии. <...> Как схиму принял он на себя свою страсть <...> Все в жизни поэта, все до конца должно быть принесено в жертву искусству" (ЛТ, 415-416). Цветаева прямо следует за Волошиным: "Брюсов был римлянином. Только в таком подходе - разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, <...> Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс" (IV, 13). В соответствии со своим методом метафорической катахрезы Цветаева совмещает в одном утверждении два тезиса: ориентацию Брюсова на латинскую культуру (прозрачный намек на богов "Энеиды") и примат искусства перед метафизикой. Величие Брюсова - вровень величию искусства, но не более того. "Брюсовские боги" и не боги вовсе, а мраморные изваяния. В отличие от Волошина, Цветаева уже не аргументирует утверждение о связи Брюсова с Римом пристрастиями своего старшего современника10. Даже у Парнок больше "римской" топики из Брюсова на страницу текста, чем у Цветаевой. Зато у Цветаевой в ходу средства поэтической этимологии. Брюсову, оказывается, "созвучны" слова с "римским звучанием": "цензор", "ментор", "диктатор", "директор", "цербер" (IV, 31). Видимо, то же и с политическими симпатиями Брюсова, с его "цезаризмом", "коммунистичностью" и т.д.: Брюсов "плебей", а не "демократ", потому что "демократ" - слово греческое, а Брюсов - римлянин (IV, 60). "Римскость" Брюсова - не в его переводах, латинских эпиграфах, романах из римской жизни и т.п., а в самых основаниях его личности, в "воловьем" трудолюбии, несгибаемой воле и "волчьих" повадках и внешности. "Марс, гений римского племени, представлялся римлянам под видом волка", - писал в одной из своих популярных лекций Ф. Ф. Зелинский11, но Цветаева не ссылается на ученых, для нее это само собой разумеется. Сема "дикости" связывает образ "волка" с образами "скифа" и "варвара", которые тоже встречаются в "Герое труда" (IV, 16, 21). Брюсов рвется из природы в культуру, накладывает на себя строгие обязательства, устанавливает нормы и ограничения. В своей "волчьей" ипостаси он вообще по ту сторону добра и зла, но как римлянин он является носителем морали, однако совсем иной, по которой ему и воздастся. Пороки Брюсова грандиозны, даже "мелкость" (IV, 21), но "в Риме, хочется верить, они были бы добродетелями", - пишет Цветаева (IV, 20). Важнейшей "римской" чертой Брюсова является его любовь к славе. Русский поэт, по словам Цветаевой, не стремится к славе, "славу русский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется" (IV, 19). Брюсов и есть "военный" в русской поэзии: он завоевывает, то есть в некотором смысле "захватывает" чужую территорию, причем, в ее существующих территориальных границах. А если их нет, жестом "варвара", "скифа" сам устанавливает их: дописывает "Египетские ночи" Пушкина, переписывает его "Памятник". "В иных случаях, - пишет Цветаева, - довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать" (IV, 16). Во всех "римских" характеристиках Брюсова сквозит понятие границы, меры, грани и ограниченности. Брюсов ограничен сам и ограничивает других ("цензор", "ментор", "диктатор", "директор", "цербер"), его идеал - стабильность и горациева "золотая середина". Комический пример проявления последней - его ответ на письмо юной Цветаевой: "Не открытка - недостаточно внимательно, не письмо - внимательно слишком, die goldene Mitte, выход из положения - закрытка. (Брюсовское "не передать".)" (IV, 23). Брюсов мечтает о памятнике при жизни и сам становится "памятником", "каменным гостем", и главное в этом тоже - понятие границы: "Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни - памятником" (IV, 18). Как Рим вторичен по отношению к Греции, так Брюсов вторичен по отношению к другим поэтам: он "завоевывает" то, что уже было завоевано до него, в том числе и "Памятник" Пушкина (IV, 19). Стремление Брюсова из "волчьей", "скифской" природы в культуру неизбежно превращает его в "ложно-классика" (IV, 39)12. Искусство Греции питалось связью с природой и ее духами, римское - связью с Грецией. Брюсову ближе Рим и Искусство, а не Греция и Природа, он лишен связи с "демонами" (IV, 13), духами стихий, в том числе, и с "женской Психеей" (IV, 39). Его "римское небо" - "низкое" (IV, 51), и "богов" там нет, потому что нет идеи повышения, движения. Здесь мы вступаем в область чисто цветаевских умопостроений. Оппозиции "движение - неподвижность" нет ни у Андрея Полянина, ни у Максимилиана Волошина в процитированном очерке. Произведение должно быть "поводом", дейксисом, говоря современным языком, указующим на более совершенное, по сравнению с собой. Иерархия, выстраиваемая Цветаевой, следующая: искусство - природа - Бог; или: произведение - автор - Творец автора, то есть тот же Бог: "Что же Фауст, как не повод к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится - Там. <...> Первая примета совершенности творения (абсолюта) - возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше - чего? - предшествующего "выше", а это уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака - и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее Гёте, как Гёте - Фауста, вот что делает и Гёте и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим" (IV, 15). Эта многоступенчатая возгонка реальности до самых тонких материй очень напоминает схему гераклитовского космоса. Описание движения мысли тоже "гераклитовское" и на языке Платона называется "диалектикой". Цель этого движения вполне удовлетворительно определяется цветаевским выражением "прорыв в божество" (IV, 60). Идея "прорыва" для Брюсова совершенно не характерна - он не революционер, как Бальмонт, например, который после победы революции обязан стать контрреволюционером (IV, 60). В заключительной фабульной главе, седьмой по общему счету, занимающей срединное место во второй части, "Революция", (ч. II, гл. III "Вечер поэтесс") описывается своеобразная "дуэль" Цветаевой и Брюсова на вечере поэтесс. Это столкновение заканчивается поражением Брюсова благодаря способности Цветаевой и неспособности Брюсова совершить "прорыв", благодаря динамизму одной и статичности другого, и Римская тема играет здесь не последнюю роль. Внешне это не выглядит как поединок или состязание, но подбор метафор, сравнений, цитат дают нам ключ к иносказательной интерпретации происходящего. В этой главе читатель получает иллюстрацию теоретических положений, выдвинутых в первой главе. Итак, описывается выступление Цветаевой на вечере девяти поэтесс. Цветаева пишет, что однажды уже отказалась от "женского смотра", признавая только "военное" разрешение "женского вопроса" в "сказочных царствах Пенфезилеи - Брунгильды - Марии Моревны" и "петроградского женского батальона" (IV, 38). Сама она является в "военном" костюме, с офицерской сумкой через плечо. Но это не рыцарский турнир, "игра" ведется по "римским" правилам Брюсова. Не зря сцена Политехнического Музея имеет форму амфитеатра. "Догадалась, - пишет Цветаева, - эстрада Политехнического Музея - просто арена, с той разницей, что тигры и львы - сверху" (IV, 41). Только в качестве "гладиаторов" или "христианских мучеников" оказываются "Музы" (9 поэтесс - 9 муз), (IV, 39). Поединок с Брюсовым не может быть состязанием равных, возможно только восстание, и Цветаева недвусмысленным образом поднимает контрреволюционный мятеж на одной отдельно взятой сцене. Мы помним, что революционер и контрреволюционер для Цветаевой это одно и то же. Кульминацией ее выступления служит стихотворение, приведенное в тексте эссе полностью (1921)13:
И в воздух чепчики бросали...
Руку на сердце положа:
Каждый встречный, вся площадь - все! -
Кремль! Черна чернотой твоей!
Если ж чепчик кидаю вверх, -
Да, ура! - 3а царя! - Ура!
Выше башен летит чепец! В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее - все розни покрывающее - доверие, взлет всех колпаков - фригийских ли, семейственных ли - поверх всех крепостей и тюрем - я сама - самая я (IV, 44-45). Героиня недвусмысленным образом поднимает контрреволюционный "мятеж" против рукоплещущей "красной" аудитории. Но аудитория - это "звери" ("тигры и львы"), которых поэту и положено завораживать14. Только Брюсов может оценить по достоинству дерзкое содержание стихотворения. Так и происходит: Брюсов немедленно просит закончить выступление. Знаменательны последние две строфы стихотворения. Самое интересное в них - траектория полета "чепца" героини. Он летит "выше башен", и следует по основному маршруту "прорыва в божество". Царь, вполне конкретный царь - Николай II, въезд которого в город героиня приветствует, оказывается "только поводом" к идее царя. За ним видится "истукан" с "литым венцом" на "челе", бронзовым или медным, как на челе медного всадника в Петербурге, созданного по образцу статуи Марка Аврелия, римского императора. "Истукан" - это и есть "царь" в своей "римской" ипостаси. Но "чепец" "минует" "венец на челе истукана" и устремляется к "Небесному Царю". "Все, с начала вселенной, въезды" царей - восхитительны, но из "всех въездов" для Цветаевой, конечно, актуальнее всего въезд Иисуса, Царя Иудейского, в Иерусалим. Это единственный царь, который одновременно и Бог, чье вознесение и есть образ "непрерывного повышения идеи Бога". И здесь символичен параллелизм образов "въезда", "утра", связанного с восходом солнца, полет "чепца" и подсказанное этим тройственным параллелизмом - "непрерывное повышение идеи Бога". В лице "истукана" терпит поражение и Брюсов, и все "римское", причем побивается Брюсов собственным оружием, поскольку бронзовые лавры на челе "истукана" - явная метафора "терниев", сквозь которые "чепец" летит "к звездам": per aspera ad astra15. Запустив в небеса "чепцом" вместе с "главою непокорной" (понятно, что "чепец" - метонимия головы16), Цветаева дает свою, гораздо более изысканную версию "памятника нерукотворного" в пику Брюсову, "поэту-александрийцу"17. Однако "победа" над Брюсовым не означает его полного ниспровержения. Цветаева писала, что ставила перед собой трудную задачу: "...вопреки отталкиванию, которое он мне (не одной мне) внушал, дать идею его своеобразного величия" (VI, 339). Если стратегию обвинения Брюсова она строит преимущественно "по Андрею Полянину", то стратегию защиты - "по Волошину". Андрей Полянин оправдывал Брюсова "безнравственным" художественным восхищением человека из будущего. Волошин, а вслед за ним и Цветаева, ищет "разгадку и справедливость" в отношении к Брюсову в далеком прошлом, в том, что Брюсов по характеру своей природы - "римлянин". В середине 20-х гг. "прошлое" для Цветаевой однозначно стояло выше "будущего". Через год после завершения эссе Цветаева называет в анкете "героем труда" и своего отца (IV, 621), а позднее - в прозе, ему посвященной, отдает должное его любви к Риму. "Римскость" для нее определенным образом связана со "спартанством" (IV, 622), которое Цветаева считала едва ли не главным наследством, полученным от родителей и всего "поколения отцов", а в записных книжках ее не раз можно встретить пожелание самой себе - оставаться "героем труда"18. ПРИМЕЧАНИЯ 1 См.: Andreeva I. Два Брюсова // Marina Tsvetaeva: One Hundred Years: Столетие Цветаевой. Oakland, 1994. P. 202-220; Боровикова М. К вопросу о реконструкции брюсовского мифа М. Цветаевой (на материале эссе "Герой труда") // Русская филология. 9: Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1998. С. 171-180. См. также нашу работу (вариант второй части настоящей статьи): Войтехович Р. "Exegi monumentum...", или Поединок Цветаевой с Брюсовым // А. С. Пушкин - М. И. Цветаева. М., 2000. С. 263-267. Назад 2 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. Л.; М., 1994-1995. Т. 7. С. 9. Далее ссылки даются в скобках в основном тексте: римской цифрой указывается том, арабской - страница. Назад 3 Парнок С. Сверстники: Книга критических статей, М., 1999. С. 136. Далее ссылки на это издание даются в скобках в основном тексте: СП и указание страницы. Назад 4 Брюсов В. Я. Повести и рассказы. М., 1983. С. 293-341. Благодарим Л. Пильд, обратившую наше внимание на эту повесть. Назад 5 Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1911. N 12577. 18 марта. С. 4. Назад 6 Цветаева могла ознакомиться с этим очерком и самостоятельно (в 1908 г., когда он вышел, началось увлечение Цветаевой Брюсовым), и через посредничество Эллиса, с которым Волошин активно переписывался. Назад 7 Подробнее об истории создания очерка см. в комментарии А. В. Лаврова и В. А. Мануйлова: Волошин М. "Лики творчества". Л., 1989. С. 720-723. Назад 8 Волошин М. "Лики творчества". Л., 1989. С. 407. Далее ссылки на это издание даются в скобках в основном тексте: ЛТ и указание страницы. Назад 9 Белый А. В. Брюсов (Силуэт) // Свободная молва. 1908. N 1. 28 янв. С. 3-4. Цит. по: Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 360. Назад 10 В мифе, который Брюсов творил о себе, римский элемент играл не последнюю роль. Не случайно, главным псевдонимом Брюсова был "Аврелий". Об интересе Брюсова к античности см.: Соловьев С. Цветы и ладан. М., 1907. С. 65; Малеин А. И. Валерий Яковлевич Брюсов и античный мир. К пятой годовщине кончины Брюсова (1924-1929) // Известия Ленинградского гос. ун-та. Т. II. С. 184-193; Гаспаров М. Л. Неизданные работы В. Я. Брюсова по античной истории и культуре // Брюсовские чтения 1971. Ереван, 1973. С. 189-208; Гаспаров М. Л. Брюсов и античность // Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1975. Т. 5. С. 543-555; Гаспаров М. Л. Анализ одного стихотворения ("Антоний" В. Брюсова) // Поэтика и стиховедение. Рязань, 1984. С. 30-35. Назад 11 Зелинский Ф. Ф. Рим и его религия // Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. М., 1996. C. 24. Назад 12 Сам Брюсов критиковал лжеклассицизм. См.: Гиндин С. Неосуществленный замысел Брюсова // Вопросы литературы. 1970. N 2. С. 189-203. Назад 13 Ни в один из сборников Цветаевой это стихотворение не входило. Назад 14 Поэт - Орфей, на способность которого завораживать "зверей" Цветаева ссылалась неоднократно: см. (V, 267), (VII, 60), а также: Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 119. Назад 15 Это выражение кажется вообще "брюсовским": оно символизирует волевое, преодолевающее препятствия, движение к "высотам" прекрасного, и не случайно именно его перефразировал в своей эпиграмме на Брюсова ("Пути и перепутья", <1920-1921>) В. Ф. Ходасевич:
Литературным ветеранам - Решился Брюсов проложить Свой путь ad gloriam per anum. Назад 16 Оторванной головы Орфея, например. Ср. "Так плыли голова и лира..." и образ возносящейся оторванной головы в "Поэме воздуха" (1927). Назад 17 Здесь существенно, что "башни", о которых идет речь в стихотворении, - это башни московского Кремля, усыпальницы царей (ср. "У меня в Москве купола горят...") - аналог "египетских пирамид", о которых упоминается еще в "Памятнике" Державина. У Державина, как это часто бывало в европейской традиции, тема "Памятника" Горация откликается в подражании его же "Лебедю" (carm. II 20), где появляется мотив вечных "звезд". Пушкин не переводил "Лебедя", но педалировал тему "высоты", отсылая не только к "Лебедю", но и к заключительным строкам оды Горация "К Меценату" (carm. I 1). Цветаева не обошла этой темы в своем творчестве ("Памятник" варьируется в "Тебе - через сто лет" 1919 г., "Лебедь" - в "Други его - не тревожьте его!" 1921 г.), но искала для ее выражения более изысканных путей: вместо банальной "вечной жизни в памяти читателей", она предпочитает "вечность" платоновского образца - приобщение к вечным "звездам". Назад 18 Cр.: "Господи, дай мне до последнего вздоха пребыть героем труда..." - запись от 3 июня 1931 г. (Цветаева М. Из рабочих тетрадей // Знамя, 1992. N 9. С. 184). Назад
* Блоковский сборник XV. Тарту, 2000. С. 182-195. Назад К оглавлению сборника |