 |
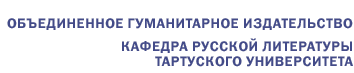 |
|
ЗАМЕТКА К ПРОБЛЕМЕ: «ПУШКИН И ШЕКСПИР» А. ДОЛИНИН Как уже неоднократно отмечалось, некоторые метафоры и сравнения в «Скупом рыцаре», выданном Пушкиным за перевод сцен из несуществующей трагикомедии Ченстона, стилизованы под то, что И. С. Тургенев назвал «чисто английской, шекспировской манерой»1; на Шекспира явно ориентировался Пушкин и создавая характер скупца, который — в терминах известной пушкинской антитезы «шекспировский Шейлок — мольеровский Гарпагон» — «не только скуп»2. В этой связи обращает на себя внимание и придуманное Пушкиным название мифического английского оригинала — «The Covetous Knight», — значение которого много шире, чем у русского «Скупой рыцарь». Дело в том, что прилагательное «covetous» (от глагола «covet» — вожделеть, сильно желать чего-либо, домогаться) означает не столько «скупой» (т. е. скаредный, паталогически бережливый), сколько «жадный», «алчный», «корыстолюбивый», о чем свидетельствуют хотя бы его использования в англиканской Библии короля Иакова (Джеймса). Ср., например, английский и канонический русский переводы отдельных мест:
В начале XIX века слово «covetous» уже было весьма малоупотребительным3, воспринималось как библеизм или архаизм, и потому тот факт, что Пушкин из всех возможных синонимов остановил свой выбор именно на нем, требует объяснения, причем в данном случае речь не может идти о недостаточном знании английской лексики. Ведь наиболее точный и распространенный эквивалент русского «скупой», «скупец» — существительное «miser» (прил. miserly) — был, несомненно, хорошо известен Пушкину хотя бы по ироническому «гимну скупости» из ХII-ой песни «Дон Жуана» Байрона, где оно повторяется четыре раза, и, прежде всего, по песне Вальсингама из той самой IV-ой сцены 1-го акта «Чумного города» Джона Вильсона4, которая послужила основой для «Пира во время чумы», написанного, как и «Скупой рыцарь», осенью 1830 г. в Болдине. Логичнее всего было бы предположить, что Пушкин обнаружил прилагательное «covetous» во французско-английском словаре, где оно в то время приводилось как один из переводов «avare» (скупой). Однако в обоих изданиях — 1823 и 1828 гг. — комбинированного карманного словаря, сохранившихся в пушкинской библиотеке5 и, судя по состоянию второй — англо-французской — части, постоянно употреблявшихся при чтении английских текстов, страница 20 первой пагинации, на которой и находится соответствующая статья (avare a. covetous, sordid; sm. a miser), осталась неразрезанной (PO ИРЛИ, de visu). Из этого следует, что Пушкин, вероятно, не просто взял словарный эквивалент французского слова, а шел от какого-то английского литературного источника, в котором он и натолкнулся на прилагательное «covetous». А поскольку к 1830 г. круг английского чтения в подлинниках у Пушкина был еще ограничен и включал прежде всего Байрона и Шекспира6, то искать такой источник следует, очевидно, именно в шекспировских пьесах, где «covetous» встречается семь раз. В шести случаях из семи Шекспир использует «covetous» как обычный, рядовой эпитет и лишь однажды — в знаменитом монологе Генри V, героя одноименной хроники — обыгрывает его двойное значение, строя на нем афористическую апологию чести. Едва ли Пушкин, читая Шекспира, мог не обратить внимания на следующие гордые слова «короля-рыцаря», столь созвучные его собственному жизненному кредо:
Nor care I who doth feed upon my cost; It yearns me not if men my garments wear; Such outward things dwell not in my desires: But if it be a sin to covet honour, I am the most offending soul alive7. (IV, 3, 24—29) Жадность к «внешним вещам» (корыстолюбие, скупость) Шекспир резко противопоставляет «жадности к чести», и это же противопоставление лежит в основе «Скупого рыцаря», где, по замечанию Ю. М. Лотмана, «вещи вытесняют людей», а «живое, природное и неотчуждаемое выглядит обесцененным»8. Собственно говоря, отношение к оппозиции «алчность — честь» определяет характеры всех основных действующих лиц «маленькой трагедии», симметричная конфигурация которых напоминает четырехступенчатую лестницу: внизу — «проклятый жид, почтенный Соломон», хитрый корыстолюбец, «чужак», для которого понятие чести вообще не существует, ибо он находится вне социокультурной системы и ее морали, искуситель, побуждающий Альбера поступиться честью9; наверху — герцог, который, подобно шекспировскому королю, полагает честь высшей ценностью и пытается судить своих подданных по ее законам; а в центре, в промежутке между двумя крайними позициями — скупой рыцарь и его сын, которыми движут оба вида «жадности», вступающие в конфликт между собой. Старый барон, по определению герцога, «верный, храбрый рыцарь» в прошлом, все еще сохраняет формальную верность традиционному кодексу — он почтителен перед своим сюзереном, он готов выполнить свой воинский долг («Бог даст войну, так я / Готов, кряхтя, влезть снова на коня; / Еще достанет силы старый меч / За вас рукой дрожащей обнажить»), он по-рыцарски реагирует на публичное обвинение во лжи («Я лгу! и перед нашим государем… / Мне, мне… иль уж не рыцарь я?»). Однако все это не более чем автоматическое выполнение внешней стороны ритуала, ибо по сути своей поведение барона бесчестно — ведь он отказывается выполнить волю государя, обманывает его, клевещет на родного сына, обвиняя его в «злом преступлении». В статье В. Скотта «Рыцарство» и в IV томе «Средневековой Европы» английского историка Генри Халлама — работах, по-видимому, послуживших Пушкину основными источниками сведений о рыцарской эпохе10, — личная честь названа высшей, абсолютной ценностью для совершенного рыцаря, который должен сочетать воинскую доблесть с благочестием и чувством любви к ближним. Основные рыцарские качества, согласно В. Скотту, — это «щедрость, галантность и безупречная репутация»11; три добродетели, которые, согласно Халламу, обязательны для рыцаря — это «преданность, куртуазность и щедрость»12. Как уточняет Халлам, истинный рыцарь презирал деньги и с легкостью расставался с богатствами, раздавая их менестрелям, паломникам и менее удачливым членам своего ордена13. Алчность, «неизвестная институтам рыцарства», была одной из главных причин их вырождения и гибели в Испании, — замечает В. Скотт14. Маниакальная жадность к золоту пушкинского героя нарушает одну из основополагающих рыцарских заповедей и неизбежно приводит к тому, что все его представления о чести, о долге, о Боге искажаются, деформируются. Как социальный, так и сакральные «верх» и «низ» в его картине мира профанически переворачиваются — подвал, подземелье становится заместителем и королевского дворца, и храма, и даже небес. Хотя барон неукоснительно следует стереотипам и языку рыцарского поведения, его объект и, следовательно, значения меняются на противоположные15: он служит сокровищам, как рыцарь должен служить господину («О! мой отец не слуг и не друзей / В них (деньгах) видит, а господ; и сам им служит…», — говорит о нем Альбер); он поклоняется злату, как рыцарь должен поклоняться Святому Граалю (ср. уподобление денег «священным сосудам»), Мадонне или Прекрасной Даме (отсюда — эротические мотивы в его монологе); он охраняет его с тем самым мечом в руках, который будет лицемерно обещан герцогу («При мне мой меч: за злато отвечает / Честной булат…»). Золото в его сознании приобретает сакральные свойства, занимает место «богов, спящих в глубоких небесах»16, а сам он, верный вассал высших сил, становится их помазанником (ср.: «Он грязь елеем царским напоит»), царем-демоном, который властвует над миром: «Я царствую!.. Какой волшебный блеск! / Послушна мне, сильна моя держава; / В ней счастие, в ней честь моя и слава!». Отождествляя честь с властью и перенося ее вовне личности, барон совершает самый страшный грех с точки зрения рыцарской культуры — честь как абсолютный нравственный императив превращается для него во «внешнюю вещь», а «внешние вещи» — в объект истовой веры и санкцию эгоистического поведения. Генри V у Шекспира — истинный король, исповедующий идеалы человеколюбия, милосердия, справедливости, — побеждает в себе низменные страсти и даже слову «covetous» придает возвышенный смысл; Скупой рыцарь у Пушкина — самозванный «король», выстроивший свою державу из чужих «обманов, слез, молений и проклятий», — отвергает эти идеалы и возвращает тому же слову его первозданное, «низменное» значение. Может быть, именно для того, чтобы подчеркнуть иронический контраст между этими двумя «монархами», Пушкин и использовал устаревшее «covetous» в подзаголовке своей «маленькой трагедии». Еще более вероятно, что с Шекспиром связана и сама конструкция названия-мистификации, которое образовано по принципу оксюморона и строится на контрасте между семантикой слова «рыцарь» и несовместимого с ним эпитета, антиномичного одной из основных рыцарских добродетелей. Аналогичные сочетания существительного «knight» с пейоративным эпитетом многократно встречаются у Шекспира в комедии «Виндзорские насмешницы» и нескольких исторических хрониках, причем чаще всего они употреблены как устойчивая характеристика сэра Джона Фальстафа — героя, которого Пушкин считал «гениальным созданием» и о котором подробно писал в заметке из «Table-Talk» (XII, 160). В «Виндзорских насмешницах» Фальстафа именуют «greasy knight» (II, 1, 112; засаленный рыцарь), «paltry knight» (II, 1, 164; презренный рыцарь), «dissembling knight» (III, 3, 153; фальшивый рыцарь), «fat knight» (IV, 1, 29; жирный рыцарь), «unvirtuous fat knight» (IV, 2, 235; недостойный жирный рыцарь), «unclean knight» (IV, 4, 59; грязный рыцарь); в «Генри V», где рассказывается, как умер Фальстаф17, о нем снова вспоминают как о «жирном рыцаре» (IV, 7, 50). Кроме того, еще один лжерыцарь со сходным именем Джон Фастольф (историческое лицо) появляется в первой части хроники «Генри VI», но на сей раз это не центральный комический персонаж, а второстепенный отрицательный герой, бежавший с поля боя и опозоривший рыцарское звание. Он «узурпировал священное имя рыцаря и осквернил наш достойнейший орден» (IV, 1, 40), — говорил о Фастольфе благородный лорд Тальбот, называя его «подлым рыцарем» (base knight: IV, I, 14). Едва ли можно сомневаться в том, что эти шекспировские оксюмороны, включающие слово «knight», и послужили Пушкину моделью, когда ему понадобилось английское название для мифической трагикомедии о рыцаре, который, подобно Фальстафу и Фастольфу, служит прежде всего самому себе. Таким образом, у нас, как кажется, есть достаточные основания видеть в названии «The Covetous Knight» не просто кальку с русского, но осознанную реминисценцию, прямо отсылающую к тем подтекстам, на которые ориентирован «Скупой рыцарь». Едва ли случайно Пушкин перечеркнул английское название в рукописи, где оно было дано без имени автора, и восстановил лишь тогда, когда усложнил мистификацию, приписав авторство драмы некоему Ченстону, — лишенное защитной маскировки правдоподобно звучащей фамилии, оно слишком явно выдавало свое шекспировское происхождение и потому не годилось для задуманной Пушкиным игры. 1 Тургенев И. С. Полное собр. соч. и писем. В 28-ми т. Письма. М.-Л., 1961–1968. Т. 2. С. 120–121 (письмо П. В. Анненкову от 2 февраля 1853 г.). См.: Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 218–220; Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 286; Мануйлов В. А. К вопросу о возникновении замысла «Скупого рыцаря» Пушкина // Сравнительное изучение литератур. Сб. статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976. С. 260–262; Левин Ю. Д. Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988. С. 54–56. Все авторы, вслед за Тургеневым, обсуждают, главным образом, следующий фрагмент из монолога барона: «Когтистый зверь скребущий сердце, совесть, / Незванный гость, докучный собеседник, / Заимодавец грубый, эта ведьма, / От коей меркнет месяц и могилы / Смущаются и мертвых высылают». В этой связи заметим, что к установленным исследователями шекспировским источникам образа могил, высылающих мертвых, следует добавить еще один — куплет песни Пака из комедии «Сон в летнюю ночь»: «Now it is the time of night / That the graves, all gaping wide, / Every one lets forth his sprite, / In the church-yard paths to glide» (V, 2, 9–12; букв. пер.: Настало такое время ночи, когда все могилы до единой, широко разверзшись, высылают своих духов скользить по кладбищенским дорожкам»). Известно, что именно Пушкин рекомендовал А. Ф. Вельтману перевести «Сон в летнюю ночь» на русский язык (см.: Левин Ю. Д. «Волшебная ночь» А. Ф. Вельтмана: Из истории восприятия Шекспира в России // Русско-европейские лит. связи. М.-Л., 1966. С. 83–92). Ср. перевод Ф. И. Тютчева, опубликованный в 1833 г., где, как и у Пушкина, появляется месяц, отсутствующий в оригинале: «Все кладбища сей порой, / Из зияющих гробов, / В сумрак месяца сырой / Высылают мертвецов!..». Этот и предшествующий куплет песни Пака были использованы В. Скоттом в качестве эпиграфа к гл. XV романа «Вудсток».Назад 2 Ср.: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (Пушкин А. С. Полное собр. соч. Т. XII. Критика. Автобиография. АН СССР, 1949. С. 159–160. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в скобках с указанием тома и страницы).Назад 3 См.: Аринштейн Л. М. Пушкин и Шенстон. (К интерпретации подзаголовка «Скупого рыцаря») // Болдинские чтения. Горький, 1980. С. 89, прим. 25.Назад 4 Скупец (a miser), заболевающий среди своих богатств, — одна из жертв Чумы, о которых поет Вальсингам (см. английский текст сцены и его дословный перевод в комментарии Н. В. Яковлева: Пушкин А. С. Полное собр. соч. Л., АН СССР, 1935. Т. VII. С. 587, 598). На параллелизм этого образа Вильсона (не вошедшего в пушкинский текст) и сюжетной коллизии «Скупого рыцаря» обратили внимание Н. В. Беляк и М. Н. Виролайнен в статье «“Маленькие трагедии” как культурный эпос новоевропейской истории. (Судьба личности — судьба культуры)» — Пушкин. Материалы и исследования. Т. XIV. Л., 1991. С. 75.Назад 5 Nouveau Dictionnaire de poche François-Anglois et Anglois-François… Par Thomas Nugent augmenté par J. Ouiseau… Dix-huitième édition, revue et corrigée par S. — F. Fain… Paris, 1823; Nouveau Dictionnaire de poche Français-Anglais et Anglais-Français, par Thomas Nugent et J. Ouiseau. 21-me Edition revue, corrigée et augmentée par M. Samuel Stone. Paris, 1828 (Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. (Библиографическое описание) // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. СПб., 1909. № 1225, 1226).Назад 6 См.: Цявловский М. А. Заметки о Пушкине… 2. Пушкин и английский язык // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. XVII–XVIII. СПб., 1913. С. 66, 70–71.Назад 7 Дословный перевод: «Клянусь Зевсом, я не жаден к золоту, и мне безразлично, кто кормится за мой счет; меня не трогает, когда носят мою одежду; столь внешние вещи не входят в мои желания; но если грешно быть жадным к чести, то тогда моя душа — самая грешная на этой земле».Назад 8 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 136.Назад 9 Когда Соломон просит Альбера: «Не можете ль хоть часть отдать», это звучит почти как предложение отдать честь. Отметим кстати, что в звуковом составе «Скупого рыцаря» комплекс ЧеСТ играет весьма заметную роль и, возможно, с ним связана замена «Ш» на «Ч» в фамилии Ченстон.Назад 10 Сборник прозаических произведений В. Скотта, куда вошла данная статья, и труд Халлама во французком переводе представлены в библиотеке Пушкина; соответствующие страницы в книгах разрезаны: The Prose Works of Sir Walter Scott. Vol. 5. Paris, 1827; L'Europe au Moyen Age. Traduit de l'anglais de M. Henry Hallam… Vol. I–IV. Paris, 1828 (Moдзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. № 1369, 966; автор благодарит Н. Л. Дмитриеву, обратившую его внимание на эти источники).Назад 11 The Prose Works of Sir Walter Scott. Vol. 5. P. 630.Назад 12 L'Europe au Moyen Age. Vol. IV. P. 301.Назад 13 См.: Ibid., p. 304.Назад 14 The Prose Works of Sir Walter Scott. Vol. 5. P. 632.Назад 15 Ср.: Беляк Н. В., Виролайнен M. H. «Маленькие трагедии» как культурный эпос новоевропейской истории. С. 80.Назад 16 См. об этой фразе: Лотман Ю. М. Три заметки к проблеме: «Пушкин и французская культура» // Проблемы пушкиноведения. Сб. науч. трудов. Рига, 1983. С. 75–81.Назад 17 Этот рассказ трактирщицы о смерти Фальстафа (II, 5) имел в виду Пушкин, когда писал в своих заметках, что Фальстаф «умер у своих приятельниц» (XII, 160). Назад (*) Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана / Отв. ред. А. Мальц. Тарту, 1992. С. 183–189. Назад © А. Долинин, 1992. Дата публикации на Ruthenia 12.05.2003. |