 |
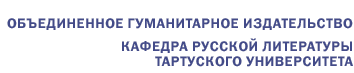 |
|
ГЛАВА II ВЫБОР БИОГРАФИИ И ВЫБОР ЖАНРА (1806–1814 годы)* § 1. Выбор биографии В ряду общих проблем построения писательской биографии вопрос о периодизации творчества занимает не последнее место. Многообразие фактов, принимаемых исследователями за «этапные», «рубежные», только затрудняет решение: это могут быть изменения внутри жанровой парадигмы, переход к иному литературному роду (чаще всего — от лирики к эпосу), резкие биографические изменения. Если учитывать все эти факторы, построение непротиворечивой исследовательской схемы становится почти невозможным. Как правило, биография писателя сопротивляется однозначному делению ее на отрезки. Так, в случае Жуковского формальное начало литературной деятельности (первая публикация в 1797 году) не совпадает с авторской трактовкой (начало — в 1802 году, публикация в «Вестнике Европы»). Принципиальность, программность «Сельского кладбища», его литературная и биографическая роли были вполне осознаны автором. Результатом такого осмысления стало «освобождение» Жуковским пространства вокруг первой элегии. Он очень мало пишет в годы, непосредственно предшествующие созданию «Сельского кладбища» и в следующие за ним (о причинах этого мы писали выше). Однако гораздо важнее то, что Жуковский в своих поэтических сборниках (разные издания «Стихотворений»: 1815–1816, 1818, 1824, 1835–1844) не публикует ранних поэтических произведений, т.е. очень многих из тех, что были созданы в 1797–1806 годах. Однажды опубликованные автором, они позднее исключаются из прижизненных изданий. Тем самым поэт выводит «Сельское кладбище» на первый план внутри своего раннего творчества, и оно как бы метонимически замещает собой раннюю лирику. Здесь впервые в полной мере проявляется свойство и биографической, и творческой личности Жуковского — внутренняя потребность в упорядочении, планировании и рационализации. В 1803–1805 годах Жуковский занимается преимущественно самообразованием с целью подготовить себя к литературной деятельности. В его дневниках этих лет отражена работа по созданию личной биографии и выработке планов деятельности. Некоторые принципиальные наблюдения над дневниками молодого Жуковского и периодом «нравственного самообразования» 1803–1805 годов сделаны в монографии А. С. Янушкевича (глава «Период нравственного самоусовершенствования и поэтического становления», раздел «Дневники Жуковского 1804–1806 гг. — лаборатория психологического анализа»). Исследователь связывает создание дневников с формированием принципов анализа душевной жизни, определяет дневниковые записи как подготовительную стадию творческого подъема 1806 года. Традиция подневных записей Жуковского восходит к «франклиновым журналам»: в его библиотеке сохранились издания сочинений Франклина, он неоднократно упоминал имя Франклина в своих высказываниях. Янушкевич отмечает, что дневники Жуковского 1800-х годов
Проделанный Янушкевичем анализ основных параметров дневниковых записей Жуковского 1804–1806 годов позволяет нам ограничиться интерпретацией лишь тех их особенностей, которые характеризуют отношение поэта к своему творчеству и соотношение творчества и жизненного поведения. Для этого нам необходимо сначала обратиться к событиям жизни Жуковского между концом 1802 и серединой 1804 годов, т.е. между публикацией «Сельского кладбища» и началом дневниковых записей. 1803 год отмечен для Жуковского тяжелой утратой — смертью близкого друга. Андрей Тургенев объединял своей личностью дружеский круг, его смерть означала распад круга (хотя, отметим, географическое разделение началось еще раньше; также отметим, что связи с братьями Тургеневыми — Александром, Николаем и Сергеем — поэт сохранил). Жуковский остро ощущал разобщение; отчасти это ощущение моделировалось в соответствии с литературными сюжетами. В стихотворениях 1803 года элегический мотив, появившийся в первом переводе греевой элегии — «странник в чуждой стороне» — претерпевает семантическую трансформацию. Утрата друга приравнивается к утрате родины. В послании «К моей лире и к друзьям моим» (начало 1803) одиночество лирического субъекта лишено драматизма, потому что оттеняется традициями «легкой поэзии»:
Поверенный души моей! В часы тоски уединенной Утешь меня игрой своей! <…> Для одиноких мир сей скучен, А в нем один скитаюсь я! <…>
Там, в мире сердца благодатном, В стихотворении на смерть Андрея Тургенева тот же мотив скитания сопутствует лирическому герою уже без всякого «смягчения» (что, конечно, обусловлено и выбором иного жанра — уже не дружеского послания, а надгробной медитации):
В сем мире без тебя, оставленный, забвенный, Я буду странствовать, как в чуждой стороне, И в горе слезы лить на пепел твой священный! [I, 59] Литературный мотив в новом биографическом контексте приобретает иной смысл. Автобиографичность стихотворения трансформирует и тему загробной встречи, благодаря оксюморонному лексическому сочетанию:
Во гробе нам судьбой назначено свиданье! Надежда сладкая! приятно ожиданье! — С каким веселием я буду умирать! <курсив наш. — Т. Ф.> Оно, по нашему мнению, реминисцирует памятные Жуковскому и использованные им строки из тургеневской «Элегии»: «И в самых горестях нас может утешать / Воспоминание минувших дней блаженных», ср. в послании Жуковского «К К. М. С<оковнин>ой», также откликающемся на смерть Андрея Тургенева: «Но в самой скорби есть для сердца наслажденье» [I, 59]. Здесь же можно упомянуть и стихотворение «К ***» (1804), в котором воспоминание об утратах минувшего года приобретает автобиографический смысл благодаря цитатам из «Элегии» Тургенева:
С опустошительной грозою Лишает прелести цветка Своей безжалостной косою, — Так ты безжалостной судьбой Лишен веселья в жизни бренной [I, 61]2. Ни это стихотворение, ни стихотворение «На смерть Андрея Тургенева» не были опубликованы после их создания. От публикации последнего Жуковский решительно отказался в письме к И. П. Тургеневу, отцу Андрея Тургенева: «Стихов моих не должно печатать: я горд именем его друга, но такими ли стихами я должен почтить кончину его? Они писаны для меня и для вас. Публика смотрит на стихи, а не на чувства. Она не поймет меня…» [I, 440 — прим.]. Таким образом, автор представляет стихотворение не как литературное явление, а как выполнение морального долга, этический акт (ср. биографическую значимость для Тургенева «Элегии», для Жуковского — «Сельского кладбища»). Изменению семантики тем и мотивов в названных выше стихотворениях («литературность» снимается биографическим контекстом) можно найти параллель в истории «Сельского кладбища». После смерти А. Тургенева сюжет греевой элегии получает новое значение. Посвящение, сделанное Жуковским еще при жизни друга, теперь указывает, кому адресована эпитафия, ктo был тот «чувствительный душою» юноша, на могилу которого приходит друг, чтобы услышать его «жребий». Итак, мы видим, что Жуковский уже на самых ранних стадиях творческого пути пытается выстраивать свою поэтическую биографию. Среди лирических произведений выделяется небольшой комплекс принципиально важных текстов. Их важность определена для Жуковского биографически: первая элегия помещается в контекст отношений с Андреем Тургеневым и позднее становится их метаописанием. Как мы уже писали выше, в самом начале 1800-х годов Жуковский не связывал своих жизненных планов с литературной карьерой, но в то же время литературная деятельность была обязательной частью этих планов. Распад пансионского круга и Дружеского общества, собственная отставка и смерть друга способствовали дальнейшим размышлениям Жуковского о своей жизненной программе. Выбранное им уединение в сельской глуши скоро начинает тяготить его, несмотря на упорные занятия по самообразованию. В первых дневниковых записях 1804 года (от 5-го августа) в диалоге А. и Б. возникает вопрос о возможном вступлении Жуковского в службу:
А. Об этом надобно подумать хорошенько. Надобно решиться; сделать план своей жизни, план верный и постоянный [Жуковский 1902: XII, 119]. Поездка в Москву, от которой автор дневника ожидал новых впечатлений, действительно состоялась. В Остафьево Жуковский встречается с Карамзиным; в начале 1805 года он опять посещает Москву и Петербург. Вероятно, под воздействием внешних впечатлений интерес Жуковского к дневнику падает: вплоть до июня 1805 года записи отсутствуют. Возвращение Жуковского в Мишенское становится возвращением к литературе: в апреле задумана описательная поэма «Весна», к которой автор начинает собирать материалы; составлена «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части нужно сделать экстракты». В середине июня в дневнике появляется упоминание о замысле журнала:
Нам неизвестно, связаны ли планы периодического издания с визитом к Карамзину, но, так или иначе, с января 1808 года Жуковский становится редактором «Вестника Европы», начатого Карамзиным и продолженного Каченовским. «Совершенно» посвятить себя литературе он планирует с начала 1810 годов. Конечно, искать причинно-следственную связь между юношескими планами и фактами биографии Жуковского довольно рискованно. Но эти планы описывают рефлексию писателя над собственными жизнью и творчеством. Несмотря на явное «повышение» статуса литературных занятий в автоконцепции Жуковского середины 1800 годов, они пока все-таки подчинены моральным целям. Жуковский пытается выбирать род литературы сообразно со своим пониманием истинно-моральной жизни:
Изменение воззрений на литературу вписывается в общую эволюцию мировоззрения Жуковского. Он подвергает пересмотру ранние идеи «уединенной жизни». В процессе чтения трактата Гарве «О уединении и обществе» Жуковский записывает в дневник мысли, которые пересекаются с содержанием статьи «Писатель в обществе» (1808; первоначальное название — «Несколько слов о том же предмете»)3:
В дневнике Жуковский пишет об уединении человека вообще, не уточняя его профессиональной принадлежности. Но сама мысль о благотворном воздействии общежития на человека, о роли общества в воспитании личности находит параллели в его статье, когда речь в ней идет о пользе, которую писатель найдет для себя в свете:
Описанные нами сдвиги в автоконцепции Жуковского середины 1800-х годов позволяют говорить о начале осмысления им литературного труда и об определении своего места в литературе. Замысел оды «К Поэзии» и чтение эстетических трактатов (Лагарпа и Эшенбурга) подтверждают это предположение. Таким образом, начало нового творческого периода в 1806 году отмечено не только резкой активизацией лирического творчества, но и определением своей писательской позиции. Любовную лирику этого года можно, разумеется, связывать и с зарождением чувства к Маше Протасовой. Но в целом творческий подъем, как нам представляется, более тесно связан с эстетическим и социальным самоопределением автора. Потребность отдать себе отчет в прошедшей жизни приводит Жуковского к написанию автобиографии «Прошедшая жизнь» и плана «Будущая жизнь». Так он завершает первый период своей деятельности, суммирует итоги пройденного пути и намечает план жизни «семейной; авторской; общественной». Отмеченные нами явления говорят об одной черте личности Жуковского, значение которой описано недостаточно — это чрезвычайно высокий уровень творческой авторефлексии. Можно сказать, что поэт был первым исследователем своего творчества — в «Конспекте по истории русской литературы» он определяет свое место и роль в русской поэзии нового времени:
Нет необходимости доказывать, что это автометаописание предвосхищает многие исследовательские формулировки, применявшиеся к Жуковскому. § 2. Выбор жанра Новый этап своего творчества Жуковский начинает с перевода отрывков из тех произведений, которые в свое время были объектом интереса Андрея Тургенева. Это поэма «The Deserted Village» Голдсмита и послание «Eloisa to Abelard» Поупа. Перевод «Опустевшей деревни» был начат Жуковским параллельно с переводом «Сельского кладбища», создававшимся, как мы показали выше, в тесной взаимной связи с «Элегией» Тургенева. Послание Элоизы к Абеляру Тургенев намеревался перевести сам. Завершая инициированные Тургеневым поэтические переводы, Жуковский как бы заканчивает начатое совместно с ним, рассчитывается с той эпохой своей жизни. Поэтому обращение к ним — по-разному, но неизбежно программное. Перевод из Голдсмита начат одновременно с «Сельским кладбищем» и в значительной степени с ним пересекается. С поэзией Грея и Голдсмита Жуковский знакомится в семье Тургеневых, чей интерес именно к английской литературе не был обычным для того времени. Наконец, в центре обоих стихотворений находится социальная тема, с различными акцентами у Грея и Голдсмита. Обращение к текстам одного типа обозначало интересы Тургенева и Жуковского — и идейные, и эстетические. Но создание из однотипных произведений двух своеобразных переводов — задача слишком сложная для начинающего переводчика. В. Н. Топоров, определяя роль Жуковского в процессе знакомства русского читателя с поэзией Голдсмита, пишет:
Близкая смежность двух переводов, согласно концепции Топорова, предопределила судьбу «Опустевшей деревни» Жуковского: новый перевод, тематически и стилистически близкий «Сельскому кладбищу», был бы воспринят как повторение. Завершение работы над ним отодвинулось на 1805 год. Почему Жуковский все-таки возвращается к этому тексту? Временной промежуток между «Сельским кладбищем» (1801–1802) и «Опустевшей деревней» (1805) заключает в себе важные для автора события, изменившие его представления о творчестве. Завершение перевода из Голдсмита — это своего рода «переписывание» греевой элегии, дублирование ее, предполагающее обновление смысла. Тема изгнания, странствований, конституирующая облик лирического героя, продолжает и развивает ту же тему из «Сельского кладбища» и стихотворений, связанных со смертью Андрея Тургенева. Но если там она имела метафорический смысл и играла в сюжете вспомогательную роль, то в «Опустевшей деревне» тема странствия становится доминирующей в характеристике героя:
Влача участок бед, Творцом мне уделенный, Я сладкою себя надеждой обольщал Там кончить мирно век, где жизни дар приял! <…> Так заяц, по полям станицей псов гонимый, Измученный, опять бежит в лесок родимый! Так мнил я, переждав изгнаничества срок, Прийти, с остатком дней, в свой отчий уголок! [I, 66–67] При этом метафорический смысл образа (путешествие, дорога как метафора жизни) оттесняется на второй план, чему способствует появление достаточно комичного «зайца» и преследующих его псов. Восприятие Жуковским образа странника как автобиографического и в то же время отсылающего к герою ранней элегии обусловливает «элегизацию» переводного отрывка из поэмы Голдсмита:
Прошли, прошли навек твои златые дни! Смотрю — лишь пустыри заглохшие одни, Лишь дичь безмолвную, лишь тундры обретаю, <…> Скитаюсь по полям — все пусто, все молчит! К минувшим ли часам душа моя летит? <…> Напрасно! Скрылось все! Пустыня предо мной! И вспоминание сменяется тоской! [I, 66] Эти общие места элегии (обратим внимание на мотив «твои златые дни», обычно сопутствующий элегическому герою, здесь же приложенный к персонифицированному образу родины) не находят соответствия у Голдсмита, а целиком принадлежат переводчику. Медитация лирического субъекта над развалинами близко ассоциируется с размышлениями над гробами «Сельского кладбища». Поэтому и перевод из Голдсмита можно считать «элегизированным», что отметил В. Н. Топоров: «<…> известный нам вариант частичного перевода “Опустевшей деревни”, сильно “элегизированный”, лишенный сюжета и существенно приглушивший социальный пафос подлинника»7. Жуковский, придающий переводимому тексту свой собственный творческий и биографический смысл (зачастую отличающийся от оригинального), прочитывает Голдсмита «сквозь» Грея и сквозь элегию в целом. Элегический жанр, как мы предполагаем, после «Сельского кладбища» приобретает в творчестве Жуковского устойчивый признак — тема памяти связывается с «надгробным» сюжетом. В «Вечере» вводится автобиографический фрагмент памяти друзей (Андрея Тургенева и Семена Родзянки):
Ужели никогда не зреть соединенья? Ужель иссякнули всех радостей струи? О вы, погибши наслажденья? <…>
Один — минутный цвет — почил, и непробудно, Именно в «Вечере» зарождается представление об автобиографизме элегии. Соответственно, элегический субъект сближается с автором: автобиографический контекст узаконен предшествующими опытами биографических «отражений» в стихах, связанных с А. Тургеневым. Мотив смерти и связанные с ним группы образов появляются и в позднейших элегиях. В «Славянке» объектом лирической медитации становится надгробный памятник:
Сей факел гаснущий и долу обращенный, Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней, Сколь все величия мгновенны [II, 21]; в элегии «На кончину Ея величества королевы Виртембергской» размышления над гробом являются основой лирического сюжета. Есть основания предполагать, что автобиографический сюжет, выстраиваемый Жуковским вокруг «Сельского кладбища», оказывает влияние на его позднейшие элегии. Жанр ассоциируется с темой и сюжетом: элегии Жуковского — так или иначе — все написаны «на смерть». Присутствие в них одической составляющей (на уровне стилистики и поэтики) указывает на воздействие державинской лирики — особенно стихотворений на смерть, сочетающих в себе жанровые признаки оды и элегии («На смерть князя Мещерского», «Водопад»). Ассоциация жанра и темы в элегиях Жуковского обоснована не жанровой принадлежностью стихотворения, а выстраиваемой автором поэтической биографией. Первая элегия, «Сельское кладбище» в его начальных редакциях, уже обозначила «надгробную» тему — еще до реального столкновения автора со смертью близких. Перевод элегии, включающей сюжет смерти юноши — творческий выбор. В позднейших элегиях сюжет смерти закрепляется, получив биографический смысл. В итоге мы можем говорить о создании Жуковским индивидуальной модификации элегического жанра, обладающей устойчивыми признаками. Перевод «Опустевшей деревни» был закончен в 1805 году, но окончание не сопровождалось публикацией — стихотворение при жизни автора так и не стало литературным фактом (первая публикация приходится на 1901 год). Судя по спискам задуманных произведений, Жуковский собирался вернуться к поэме Голдсмита8, однако возвращения не произошло. Очевидно, что творчески «Опустевшая деревня» уже не была принципиальна, ее значение для автора было скорее психологическое. В ней проговаривается биографический сюжет, фоном для которого является «Сельское кладбище», программное и в творческом, и в биографическом смысле. Отзвуки голдсмитовского перевода можно обнаружить в дальнейшем творчестве Жуковского: они, согласно Топорову, встречаются в элегии «Вечер» и в «Теоне и Эсхине»9. Но «Вечер» принадлежит уже к другой творческой стадии — он самостоятелен и в сюжетном плане, и в плане поэтики. К «тургеневскому периоду» в биографии Жуковского принадлежит и оригинальное стихотворение «К поэзии», написанное в связи с неоконченным переводом «Успехов поэзии» Грея. Перевод был начат параллельно с «Сельским кладбищем». Андрей Тургенев в переписке осведомлялся, каковы успехи Жуковского в переводе «пиндарической оды» Грея (письмо от 21 марта 1802):
Вряд ли здесь Тургенев ратует за полемику с карамзинским стихотворением «Поэзия» — содержание перевода этого не подтверждает: в обоих случаях речь идет о высоком понимании поэзии (ср. у Карамзина: «Поэзия святая! / Се ты в устах его, в источнике своем, / В высокой простоте! Поэзия святая! / Благословляю я рождение твое!»11; у Грея-Жуковского: «О муза, дщерь небес, и в неприступны зоны, / Где солнце в вечной пре с необозримым льдом, / Блеснула ты благим, живительным лучом, / И укротилася жестокость Аквилона!» [I, 447]). Очевидно, Андрей Тургенев намекает на возможное «замещение» Карамзина-поэта, а вероятно — и Карамзина-издателя. Карамзин, в глазах кружка Тургенева бывший основной фигурой в русской поэзии последнего десятилетия XVIII века, отказывается от поэзии. Он становится редактором и историком и перестает быть поэтом («уже прежде все это написано» — т.е. это уже в прошлом), отказывается от художественного творчества — шаг, предосудительный для «энтузиастов» тургеневского круга. Видимо, программный перевод программного стихотворения Грея должен был обозначить явление нового поэта, взамен «истощенного» Карамзина. Сохранился только отрывок перевода (поврежденная копия). Жуковский его не завершил — вероятно, потому что в 1803 году были изданы «Стихотворения Грея, с аглинского языка переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, с присовокуплением краткого известия о жизни и творениях Грея, и многих исторических и баснословных примечаний» [I, 447 — прим.]. Жуковский оставляет перевод, но написанное им вскоре стихотворение «К поэзии», в целом оригинальное, наследует тематику и мотивы «Успехов поэзии» Грея. «К поэзии» напечатано сразу по создании (в декабре 1804), что не вполне обычно для раннего Жуковского. Быстрая публикация подтверждает программный характер стихотворения. В проектах издания стихотворений оно до 1814 года фигурирует под первым номером, открывает раздел «Лирические стихотворения» в планах, что тоже указывает на место этого стихотворения в творческой системе Жуковского. Но в издание 1815–1816 годов «К поэзии» вообще не включено, второй том этого собрания стихотворений открывает элегия «Славянка», в него входят баллады и перевод «Идеалов» Шиллера. Видимо, программное для своего периода, после 1814 года стихотворение «К поэзии» уже не отвечает авторской концепции. Об изменении ее мы будем говорить ниже. Перевод фрагмента из послания «Eloisa to Abelard» Александра Поупа стоит особняком не только в лирике 1800-х годов, но и в творчестве Жуковского в целом. Оно явно выбивается за рамки его любовной лирики. Необычен для молодого поэта выбор текста для перевода — одного из самых страстных, эротичных в европейской поэзии того времени. Интерес к Поупу, именно к этому его произведению возник еще в начале 1800-х, когда Андрей Тургенев размышлял над возможностью перевести послание Элоизы к Абеляру, в письмах 1802 – начала 1803 годов он пишет к другу:
и позднее:
Тургенев, вероятно, за желанием перевести героиду подозревает не только чисто творческие причины, т.е. усматривает в нем не только литературный, но и биографический смысл. Не имея писем Жуковского к Тургеневу, мы не можем определить точно причины отказа Жуковского от перевода. Известно лишь то, что перевод состоялся только после смерти Андрея Тургенева. Теперь давно задуманный перевод послания становится как бы и данью памяти. Жуковский вносит его в план переводов 1805 года, в чем можно усмотреть параллель с историей «Опустевшей деревни». С другой стороны, стихотворение является отчетливым биографическим жестом. Если ранее Жуковского могла привлекать страсть как объект поэтического изображения, то теперь в ее описании важнее автопсихологический оттенок: переводчик соотносит себя с адресатом послания Элоизы, а опосредованно — и с героем «Новой Элоизы». Героида Поупа в начале XIX века довольно близко связывалась с элегией. «Монастырская» тема, в ее разновидности, усвоенной готическим романом, вела, как отметил В. Э. Вацуро, к «прямо элегическим ситуациям», что обусловило высокую популярность и сюжета об Элоизе и Абеляре, и его трактовки Поупом: «Ситуация вечной разлуки влюбленных и неугасающей страсти в стенах монастыря оказалась созвучной русским сентименталистам и преромантикам; к этой героиде (в версии Колардо) обращается, в частности, В. А. Озеров. Еще любопытнее, однако, повышенный интерес к ней в тургеневском кружке»13. Ситуация героиды, согласно Вацуро, переходит «в снятом виде» в элегию и формирует ее «психологический субстрат»: и кладбище, и монастырь оказываются местом, где уничтожаются страсти. Но в героиде этот сюжет (вплоть до 1820-х) окрашивается антиклерикальным пафосом, а элегия, в частности — «Сельское кладбище» Жуковского, напротив, воспринимается «как утверждение религиозного квиетизма»14. Можно, видимо, осторожно предположить дублетность переводов элегии и героиды: в них представлены противоположные варианты темы «страстей» и борьбы человека с ними. Направление изменений при переводе Поупа (усиление «мрачного» колорита и введение элегической лексики) свидетельствует о двух жанровых подтекстах: элегии и (возможно) грядущей баллады:
Где вечно царствует задумчивый покой, Где, умиленная, над хладными гробами, Душа беседует, забывшись, с небесами, Где вера в тишине святые слезы льет И меланхолия печальная живет, Что сердце мирныя весталки возмутило? <…> О стены мрачные! О скорбных заточенье! Пустыней страшный вид! Лесов уединенье! О дикие скалы, изрытые мольбой! О храм, где близ мощей, с лампадой гробовой, И юность и краса угаснуть осужденны! [I, 69] Мрачность заточения и страдания монахини Элоизы находят соответствие в русской литературной традиции, как поэтической, так и прозаической: ср. балладу «Раиса» и повесть «Остров Борнгольм» Карамзина. Определенные параллели можно найти между посланием Элоизы к Абеляру в переводе Жуковского и его переводом «Леноры» — причем это будут сюжетно-тематические параллели, то есть сюжет и тема становятся фактором отбора переводимых произведений. Поэт останавливается на однотипных сюжетах, вне зависимости от их жанровой реализации. И если сюжет борьбы с судьбой и несчастной любви впервые реализован у Жуковского в переводе героиды, то это позволяет рассматривать переводное послание «Элоиза к Абеляру» как промежуточное явление между элегией и балладой, сюжетные коллизии и отчасти стилистику которой оно предвосхищает. Непосредственный контекст героиды в поэзии Жуковского образует любовный цикл 1806 года (он не был выделен автором как цикл, поэтому мы пользуемся этим определением условно). Он, конечно, связан с биографическим контекстом. Однако разнообразие лирических сюжетов, связанных с любовной темой, не позволяет искать в стихотворениях «отражений» реальных ситуаций из жизни поэта; ср.: «В разлуке я искал смягченья тяжких бед…» (отрывок перевода из элегии Парни), «Песня» («Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье…»), «Сафина ода», «Идиллия» («Когда она была пастушкою простою…»), «Прощание старика», «К Эдвину». Обратим внимание на разнообразие жанровых характеристик: героида, отрывок из элегии, песня, «сафина ода», идиллия. Все стихотворения этого условного цикла — переводные. Жуковский «примеряет» жанры к теме, экспериментируя с обликом лирического субъекта («ролевая лирика»): женщина, идиллический пастух, старик; последние два образа, впрочем, устойчивые в античной поэзии авторские маски. Примечательно, что в прижизненные издания входит только «Идиллия» («Когда она была пастушкою простою…») — стихотворение, которое может быть причислено к идиллиям лишь благодаря «пастушескому» антуражу. Цикл любовных лирических стихотворений приходится на начало 1806 года, как мы видим, он очень компактный. По нашему мнению, принципиальным фактором творческой эволюции Жуковского можно считать возникновение своеобразных «жанровых блоков». Так, замысел элегии «Вечер» писатель включает в ряд других элегических тем и сюжетов: «Сочинить. Элегии: Отсутствие. Первое впечатление. Присутствие. Знатность. Уединение. Скука. Мечты. Музыка. Ручей <первоначальное название «Вечера»>. Быстрота времени» [I, 466 — прим.]. Аналогично можно описать и обращение к басенному жанру в 1806 году — такой же сознательный жанровый эксперимент, когда на протяжении небольшого временного отрезка намечается и создается своего рода «жанровый цикл». 1806 год особенно показателен в этом отношении — здесь возникают «блоки» любовной лирики, элегий и басен. Не всегда при этом замыслы доходят до стадии воплощения. Элегия оказалась наименее продуктивным в количественном отношении жанром — написано только одно из целого ряда задуманных стихотворений. Однако для реконструкции принципов художественной работы Жуковского эти планы оказываются существенным фактом. § 3. Баллада (1808–1814) Лирический «взрыв» 1806 года обозначил новый этап в творчестве Жуковского. Но публикация многочисленных лирических произведений была отложена автором. Активная публикация началась позднее, в 1807, при этом интенсивность поэтической работы заметно снижается (написано два стихотворения и три альбомные «мелочи»; в 1806 — 22 лирических стихотворения, 18 эпиграмм, 19 басен [I, 69–117]). И примечательно, что именно басенный цикл публикуется практически целиком. Как мы отметили выше, раннюю лирику Жуковский оставляет в рукописи и позднее не вводит ее в собрания стихотворений. Басня же, значимый для сентименталистской поэзии жанр, выводится в печать. Для этого избран журнал «Вестник Европы», в котором автор дебютировал. К 1807 году редактирует его уже не Карамзин, а Каченовский, но в целом издание не перестает от этого быть «центральным органом» новейшей литературы. И то, что Жуковский связывает развитие своей писательской карьеры именно с этим журналом, показательно: очень скоро, в 1808 году, он станет соредактором «Вестника Европы». Этот год, очевидно, и можно считать началом профессиональной деятельности Жуковского-писателя. На него приходится и создание первой баллады, переводной «Людмилы» и замысел оригинальной «Светланы» — т.е. начало «личного» жанра. О специфике русской романтической баллады, ее генезисе и типологии написано достаточно много, как и о балладе Жуковского в частности15. Поэтому нас меньше будут интересовать связи баллады Жуковского с традицией русской баллады и с европейской жанровой традицией. Мы обратимся к авторскому контексту баллад Жуковского и рассмотрим трансформацию жанра в связи с общим направлением творческой эволюции автора и особенно — роль балладных текстов Жуковского в формируемой им творческой и житейской биографии. Баллада появляется в творчестве Жуковского на фоне предшествующих поэтических находок. «Сельское кладбище» и «Вечер» обозначили направление развития русской элегии. В 1806 году лирический репертуар Жуковского включил также комплекс ролевой лирики — с определяющей любовной темой. Таким образом возникает авторский контекст для разработки нового жанра. Если в начале 1800-х фоном элегических текстов являлась моралистическая поэзия, наследующая традициям XVIII века, то теперь фоном баллады стали элегия и любовная лирика. Новый тип лирического повествования (суггестивный, элегический) в конце 1800-х годов перестал быть новаторским, поэтому Жуковский использует его как основу для новой баллады, непохожей на предшествующие жанровые образцы (баллады Н. М. Карамзина, М. Н. Муравьева и др.). Сопоставление шло на контрастной основе: балладный мир противопоставлен лирическому как мир антитез, дисгармонии, этических конфликтов. В описании ранних баллад А. С. Янушкевич пользуется метафорическим определением «театр страстей». Анализируя ранние баллады Жуковского (1808–1814 годов) как поэтическую систему, А. С. Янушкевич выделил основную черту балладного мира — изменившийся характер мироощущения персонажей: «Герои баллад Жуковского — люди с пробудившимся чувством личности. Поэтому неслучайно в центре “маленьких драм” (Шевырев) оказывается столкновение человека с судьбой, своеобразный бунт против судьбы»16. Конфликт героя с собой и с миропорядком реализовывался в разрушении тривиальных связей внутри балладного мира. Фантастика проникала в «нормальное» бытие; позиция обыденного сознания подвергалась отрицанию. Именно отрицание рациональности, нормативности в балладах Жуковского и послужило поводом для критических выступлений против «Людмилы» и, позднее, «Рыбака»17. Герои баллад, персонажи «с пробудившимся чувством личности», отчетливо соотносились с лирическим героем Жуковского. Обращение к балладе означало обращение к иному типу лирического повествования. Эпический потенциал баллады расширял поэтические возможности Жуковского-лирика18. Но, с другой стороны, баллада может быть в определенном отношении сближена с «ролевой лирикой» (через особенности сюжетного репертуара и персонажной организации). Поэтому послание «Элоиза к Абеляру» можно интерпретировать как промежуточную ступень между лирикой и балладой. В этом стихотворении, безусловно, силен биографический подтекст, но развитый сюжет и статус персонажей (персонажей «героиды», имеющих и затекстовую историю) сближают послание с балладой. К тому же любовная тема, как мы увидим ниже, является наиболее частотной именно в балладах 1808–1814 годов (в позднейшем своем развитии баллада Жуковского получает чаще иное сюжетное наполнение). Ранние баллады — преимущественно лирические; ср. у Гуковского, как всегда, заостряющего суждение:
Действительно, сюжетный аспект в ранних балладах менее проявлен. Корни этого лежат, как нам видится, в специфике ранних балладных сюжетов. Жуковский пробует другой вариант лирического повествования — лиризм при отсутствии ассоциации между автором и персонажем, точнее — при минимальной ассоциации. И, как заметил по другому поводу С. А. Аверинцев, не последнюю роль играет при этом балладная экзотика20; она «отстраняет» лиризм баллады, обозначает дистанцию между автором и созданным им художественным миром. Как чаще всего бывало у Жуковского, новый жанр для него начинается с перевода — с бюргеровой «Lenore». О стратегии переводчика было написано уже немало, что позволяет нам не касаться этой части истории «Людмилы». После первой баллады обычно в исследованиях идет речь о «Светлане», которая истолковывается как уже вполне оригинальное произведение Жуковского, следствие окончательной акклиматизации романтической баллады на русской почве. Однако исследователи игнорируют то обстоятельство, что «Светлана» была задумана в том же 1808 году, что и «Людмила». Если принять во внимание эту малозаметную деталь, эволюция Жуковского-балладника предстает несколько в ином виде. Отмеченная нами черта его творческого развития — способность вести жанровые эксперименты в противоположных направлениях почти одновременно — оказывается важной и для описания баллады. В апреле закончена «Людмила», уже в декабре начата работа над балладой «Святки», которая позднее получит название «Светлана» (примечательно созвучие чернового и окончательного заглавий; Светлана — имя искусственное, его фонетический облик «рифмуется» со святками). Таким образом, русификация баллады Жуковского начинается практически сразу. В связи с этим можно также вспомнить и прозаические произведения поэта — повести «Три сестры (Видение Минваны)», «Три пояса» и «Марьина роща», последние автор предполагал переработать в баллады21. Очень условная «фольклорность» повести «Три сестры», генетически восходящая к оссиановской поэзии и сентиментальной прозе, сменяется тоже условной, но географически конкретизированной легендой в «Марьиной роще». Так же движется и баллада — от общей фольклорно-сказочной окраски в «Людмиле» к смягченным, но этнографически точным описаниям святочных обрядов в «Светлане». Почти в то же время, в 1809 году, Жуковский пишет и неожиданную по сюжету балладу «Кассандра» — до нее античная тема редко встречается в его поэзии. Сюжет «Кассандры» Жуковский заимствует из Шиллера, но, видимо, причины обращения к античному сюжету нужно искать не в немецкой литературе (связь между Бюргером и Шиллером неочевидна), а в русской. В 1805 году Жуковский, будучи в Москве, знакомится с В. А. Озеровым. Возвращение к замыслу «Элоиза к Абеляру», когда-то оставленному по просьбе Андрея Тургенева, позволяет предположить знакомство переводчика с поэтическим дебютом Озерова — с переводом (первым стихотворным в России) «Элоиза к Абеляру»22. Кроме того, в 1809 году, когда Жуковский пишет «Кассандру», прошла премьера злосчастной трагедии Озерова «Поликсена» (14 мая 1809). К сожалению, мы не знаем, был ли тогда известен Жуковскому текст трагедии (он в это время находился в Москве). Но интерес Жуковского к театру был вполне устойчивым, о чем говорит серия театральных рецензий, опубликованная им в 1809 году в «Вестнике Европы». Вопрос о творческих связях Жуковского и Озерова мы вынуждены оставить, так как он требует более глубокого изучения. Здесь же можем предположить, что интерес Жуковского к образу Кассандры, вероятно, обусловлен не только чтением Шиллера, но и знакомством с трагедией Озерова «Поликсена», которая представляла собой новаторскую — предромантическую — линию русской драмы. В начале XIX века зарождался русский ампир, и интерес к классическим сюжетам и образам окрашивался в патриотические тона. Ранняя «Кассандра», конечно, прочитывалась в элегическом ключе. Но «Ахилл», баллада, тоже граничащая с элегией, в 1814 году воспринималась на фоне «Певца во стане русских воинов», и шатры в «стане Атрида» становились почти неотличимы от шатров «во стане русских воинов». Элегические элементы в «Ахилле» обретали иножанровый подтекст, расширяя семантический потенциал баллады. Другая «античная» баллада, «Кассандра» не обладала такой способностью к расширению контекста. Возможно, сближение русского и античного сюжетов можно провести по линии поэтического изображения «наивного сознания»; ср. «русские песни» и античные миниатюры в поэзии Мерзлякова и значительно позднее — Дельвига. В этом отношении Жуковский находится в русле художественных тенденций своего времени. О том, что для Жуковского русская древность и античность — явления одного ряда, говорит и параллельное чтение им в 1810 году Гомера (в переводах Фосса и А. Поупа) и русских летописей — на фоне замысла «Владимира». Поэтому можно говорить о некоей параллельности «Людмилы» и «Кассандры», и «Светланы» и «Ахилла» (задуман в 1812, закончен в 1814 году). При этом заметим, что «античные» баллады гораздо ближе к элегии, чем «русские»: они монологичны и почти лишены эпического сюжета («элегии в декорациях», по определению М. Л. Гаспарова). После баллад 1808–1810 годов в развитии жанра наступает некоторый перерыв, обусловленный внешними событиями в том числе: Жуковский занят журнальной работой, потом, после неудачного сватовства к Маше Протасовой, он вступает в ополчение. Возвращение к балладе происходит в 1812 году и обозначается публикацией «Светланы» в первом номере «Вестника Европы». В течение года создаются баллады «Ивиковы журавли» и «Адельстан». В октябре-ноябре 1814 («долбинская осень») написаны «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин», «Эолова арфа», «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем…», закончен «Ахилл» и задумано продолжение «Двенадцати спящих дев». А. С. Янушкевич, описывая баллады 1808–1814 годов как «комплекс», сделал акцент на их «системности», обусловленной сюжетной спецификой. Действительно, при изучении балладных текстов Жуковского сюжетный аспект наиболее показателен — особенно если фоном для баллады выступает его лирика 1800-х годов. Мы хотим обратить внимание на различия баллад между собой, то есть описать не объединяющие их признаки, не жанровый инвариант, а те тенденции, которые свидетельствуют о движении баллады в творческой системе Жуковского. В русской литературе баллады писали и до Жуковского; опыты Каменева, Муравьева и Карамзина в этом жанре были известны публике. Для их баллад характерны драматические сюжеты, герои в них представлены в момент перелома, высокого напряжения. Топика ранней русской баллады связана с особенностями сюжета: «бурный» пейзаж является параллелью состоянию героя (героев), вверженных волею судьбы в трагические коллизии (ср. в «Раисе» Карамзина: «Тут бездна яростно кипела / При блеске огненных лучей; / Громады волн неслися с ревом, / Грозя всю землю потопить»). Обращение Жуковского к балладе происходит, таким образом, на фоне уже существующей традиции. Но она слишком слаба, неразвита, чтобы ограничить поиски поэта рамками уже существующих жанровых решений. Жуковский воспринимает балладу как жанр, обладающий высоким потенциалом развития. Поэтому, начав с переложения, он сразу начинает оригинальную балладу, заимствуя для нее только сюжетную канву, — сам сюжет, благодаря введению темы сна, кардинально меняется. Изменение, которое введено Жуковским, обычно описывается исследователями как «смягчение»: балладные ужасы оказываются сном. Но, согласно нашему представлению, снятие драматизма можно расценить как игру с читательскими ожиданиями, в которую входит элемент иронии по отношению к жанру и к автору. Соотнесение «Людмилы» и «Светланы» как бы обнажает механизм построения балладного сюжета, и возможно, что это раскрытие входило в авторский замысел. Баллады приносят Жуковскому успех у читателей. Сам жанр начинает устойчиво связываться с именем поэта; уже в 1812 году Батюшков в послании именует Жуковского «балладником». Если в начальный период творчества (1797–1805) лирика развивается в полемическом соотнесении с традицией поэзии XVIII века, то теперь, в конце 1800-х – начале 1810-х лирика Жуковского становится фоном для развития баллады. Сходным образом позднее, во второй половине 1810-х и в начале 1830-х годов баллада образует субстрат для стихотворной повести. Полемика о балладе начнется среди русских литераторов позже. А пока Жуковский, дебютировавший элегией в «Вестнике Европы», затем ставший редактором этого издания — журналистом и литературным критиком, закрепляет свое место на российском Парнасе благодаря «находке» нового актуального жанра. Все балладные опыты других авторов будут оцениваться на фоне баллад Жуковского23. § 4. Бард и певец Итоги первого периода творческой деятельности Жуковского можно кратко охарактеризовать на материале не баллад, не элегий, не интимной лирики, а лирики патриотической. На наш взгляд, именно тексты этого рода обозначили особое место поэта в культурной ситуации первой половины 1810-х годов. Хрестоматийно исследовательское мнение, что «Певец во стане русских воинов» — вершина русской патриотической лирики 1812 года, поэтическое достижение новой поэтической школы. «Певец…» доказывает, что для элегического направления доступны и другие, не только элегически-интимные поэтические регистры. Жуковский получает имя «русского Тиртея», «ибо автор был не только поэтом, но и воином»24 (о происхождении прозвища см. также: [I, 471–472]). Также традиционно в исследованиях указание на неудачу Державина, написавшего «Гимн лиро-эпический на изгнание французов…». Все эти наблюдения давно стали общим местом в литературоведении. Мы хотим обратиться к более частной проблеме, которая именно в силу своей «немасштабности» заслонялась проблемами историко-литературной значимости патриотической лирики Жуковского. Это вопрос о месте стихотворений, связанных с русско-французскими военными действиями, в творческой системе самого поэта. Первой попыткой в разработке этой темы стала «Песнь барда над гробом славян-победителей». Импульс к ее написанию, видимо, дал исход Аустерлицкого сражения; хотя отклик не был непосредственным — «Песнь…» начата 28 сентября и закончена 15 ноября 1806 года (сражение произошло 20 ноября/2 декабря 1805). В «Стихотворениях Василия Жуковского» (1815–1816) дано авторское примечание: «Стихи сии написаны в конце 1806 года и относятся к военным обстоятельствам того времени», в воспоминаниях Ф. Ф. Вигеля указано, что Жуковский «оплакал падших в поражении Аустерлицком» [цит. по: I, 472]. В художественном отношении генезис «Песни…» оказывается довольно сложным. Авторское жанровое определение, входящее в название текста, отсылает одновременно и к современным поэту представлениям о древней русской поэзии, и к оссиановским «Песням». Причем, как свидетельствуют черновые материалы, в первоначальных вариантах «древнерусский» колорит был сильнее: вариант чернового названия — «Певец перед вои»; фигура барда появляется в следующем варианте (пока без определения жанра текста — «Бард над гробом…»). В синтетическом облике «Песни…» проявляются многие черты творческого метода Жуковского. Как обычно, он не обходится без автобиографических аллюзий. Согласно указанию новейших комментаторов, «заглавие произведения было напоминанием о дарственной надписи на титульном листе первого изд. “Слова о полку Игореве”, сделанной Андреем Тургеневым: “Песнь древнего барда новому трубадуру дарит Андрей Тургенев в знак дружбы на память любви. 1800 ноября 24” <…>, тем более, что мотивы и образы “Слова…” нашли свое отражение в работе Жуковского» [I, 472]. Таким образом, интерес к древнерусской литературе и историческим и легендарным сюжетам из эпохи Древней Руси, как можно предположить, поддерживается биографическими обстоятельствами. В связи с этим нельзя, разумеется, игнорировать дружеские отношения Жуковского с Карамзиным, к началу 1810-х уже достаточно близкие. Именно Карамзин опубликовал в «Вестнике Европы» неоконченную повесть Жуковского, посвященную памяти Андрея Тургенева, «Вадим Новгородский». Общение с Карамзиным стимулирует обращение Жуковского к русской истории, к историческим сюжетам и работу над произведениями древнерусской письменности (в частности, к летописям). В «Песни барда….» для Жуковского были важны все же не чистота исторического колорита, а возможности лирического повествования о предметах, традиционно бывших объектом воспевания оды. Новизна «Песни…» состояла именно в смешении разных жанровых тенденций и синтезе стилевых регистров. Жуковский вводит фигуру певца-барда, лиризм которого вызывает у читателя воспоминание об элегическом повествователе. Одический синтаксис сочетается с элегической лексикой и образностью:
О бардов лира вдохновенна! Проснись — да оживет хвала в твоих струнах! Да тени бранные низринутых во прах, Скитаясь при луне по тучам златорунным, Сойдут на мрачный дол, где мир над пеплом их, Обвороженные бряцаньем тихострунным [I, 80]. Славянский пейзаж приобретает оссианический колорит; легендарные славянские боги сближаются с античными, славянские воины наделяются доблестями средневековых рыцарей и т.д. Жуковский использует весь наличный арсенал изобразительных средств батальной поэзии, вне различия их функций в предшествующей традиции. Результат парадоксальным образом оказывается вполне успешным. В отличие от многих других поэтических произведений Жуковского того времени, «Песнь барда» публикуется непосредственно после создания — в декабре 1806 года она уже напечатана в «Вестнике Европы». По воспоминаниям современников (Вигель, А. П. Зонтаг, Блудов, А. И. Тургенев), «Песнь» сразу снискала популярность. И что особенно показательно, автор не довольствуется только публикацией в журнале: он хлопочет об отдельном издании, задумывает инсценировку произведения, с этой же целью сочиняет хор. «Песнь барда», таким образом, воспринимается и как патриотический акт, и как шаг на пути к поэтической славе. Жанр произведения играет при этом не последнюю роль: именно патриотическая песнь, по Жуковскому, является «достойной» печати и, соответственно, славы; любовная лирики остается в рукописи. «Певец во стане русских воинов» во многом следует по пути, уже намеченному «Песней барда». Стихотворение печатается в журнале «Вестник Европы», номер с ним по обстоятельствам времени несколько запаздывает, поэтому отдельное издание «Певца во стане» выходит раньше, в феврале 1813 года (вероятно, хотя достоверно не известно, что существовало и издание походной типографии Кутузова). Автор, вопреки обыкновению, в этом случае способствует максимальному распространению своего произведения. С 1813 года начинается история официального признания Жуковского: императрица Мария Федоровна знакомится с «Певцом во стане…» и способствует выходу второго издания. Жуковский вносит поправки и дополнения в свой текст — довольно существенные: распространяется часть, описывающая деяния героев войны и полководцев; таким образом, поэма эпизируется и становится попыткой исторического описания военной кампании, а не только лирическим гимном. Кроме того, вместе с Блудовым автор делает ряд исторических примечаний к тексту. Большой успех «Певца…» у публики и официальное признание способствуют изменению авторской репутации Жуковского. Он становится «русским Тиртеем», а не только «балладником». Это изменяет и автоконцепцию творчества Жуковского. Из лирика, «поэта чувства» он становится «певцом русской славы». Приходит ощущение широты своих творческих возможностей и понимание права поэта на высказывание, на произнесение истины. Таким высказыванием станет послание «Императору Александру», за которое Жуковский принимается в 1814 году, в «Долбинскую осень». Период ученичества и творческого становления, по собственному ощущению поэта, миновал. Пришло время славы и поэтического развития. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. С. 33–34. Назад 2 Авторство этого стихотворения до конца не определено; см.: [I, 442–443 — прим.], но мы, вслед за В. И. Резановым, Ц. С. Вольпе и другими исследователями, считаем принадлежность его Жуковскому вполне вероятной, пока бесспорно не доказано обратное. Назад 3 И. А. Бычков в примечаниях к публикации дневников Жуковского в «Русской старине» отмечает, что среди бумаг писателя сохранилось начало статьи «Общество и уединение», вероятно, относящееся к 1805 году. Это подкрепляет предположение о связи между чтением Гарве и концепцией статьи «Писатель в обществе». Назад 4 Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 171–175. Назад 5 Там же. С. 324. Назад 6 Топоров В. Н. Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana'ы (к постановке вопроса). Wien, 1992. С. 21–22. Назад 7 Там же. Назад 8 Библиотека В. А. Жуковского в Томске: В 3 ч. Томск, 1978–1989. Ч. 2. С. 484. Назад 9 Топоров В. Н. Указ. соч. С. 31–41. Назад 10 Письма Андрея Тургенева к В. А. Жуковскому. С. 402. Назад 11 Карамзин Н. М. Стихотворения. Л., 1966. С. 58. Назад 12 Письма Андрея Тургенева к Жуковскому. С. 418, 420. Назад 13 Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 60–61. Назад 14 Там же. С. 62. Назад 15 См., например: Каплинский Я. В. Жуковский как переводчик баллад // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. № 1; Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. С. 55–65; Иезуитова Р. В. Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 143–149; Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1985. С. 158–223; Власенко Т. Л. Типология сюжетов русской романтической баллады // Проблемы типологии литературного процесса. Пермь, 1982. С. 20–29; Немзер А. С. «“Сии чудесные виденья...” Время и баллады В. А. Жуковского» // «Свой подвиг свершив...». М., 1987; Левченко О. А. Жанр русской романтической баллады 1820-х — 1830-х гг. Смоленск, 1990 и др. Назад 16 Янушкевич А. С. Указ. соч. С. 83. Назад 17 См. разборы основных направлений критики: Иезуитова Р. В. Указ. соч. С. 150–152; Немзер А. Указ. соч. С. 161–191. Назад 18 См. об этом: Янушкевич А. С. Указ. соч. С. 80–81. Назад 19 Гуковский Г. А. Указ. соч. С. 55. Назад 20 Аверинцев С. А. Размышления над переводами Жуковского // Жуковский и литература конца XVIII–XIX вв. М., 1988. С. 251–275. Назад 21 Янушкевич А. С. Указ. соч. С. 82. Назад 22 В библиотеке Жуковского сохранилось издание Озерова, в третьем томе которого напечатан перевод героиды. Назад 23 Достойную внимания исследователей параллель пути Жуковского образует литературная биография Вальтера Скотта. Дебютом писателя, принесшим ему известность, стал перевод «Lenore» Бюргера. Лишь впоследствии Вальтер Скотт обращается к жанру исторического романа, в начале писательской карьеры его слава основана на балладах. Здесь интересно не только совпадение начальных эпизодов литературных биографий английского и русского литераторов, но и обращение именно к одному источнику для поэтического перевода. Назад 24 Иезуитова Р. В. Жуковский и его время. М., 1989. С. 137. Назад
* Татьяна Фрайман. Творческая стратегия и поэтика В. А. Жуковского (1800-е — начало 1820-х годов). Тарту, 2002. С. 36–58. Назад © Татьяна Фрайман, 2002. Дата публикации на Ruthenia 16/01/04. |