 |
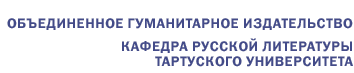 |
|
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА
Я познакомился с ним в конце 60-х или в начале 70-х годов, когда он уже был знаменит. На его лекциях по истории средневековой эстетики (на деле же это были лекции по истории средневековой философии и религиозной мысли) собиралась «вся Москва». Взгляд мой случайно упал на конспект моей соседки — полной энтузиазма немолодой дамы, старательно выводившей в тетради имя Бонавентуры, которое она написала с конечным -о, что представилось мне своего рода эмблемой оборотной стороны славы. «Я всего лишь интерпретатор», — говорил о себе Сережа, в «советской ночи» подвижнически открывавший для нескольких окраденных поколений пласты библейской, ближневосточной, античной, средневековой культуры. Невежественная власть спохватывалась — разгонялись редакции (как это было после выхода 5-го тома «Философской энциклопедии»), увольнялись сотрудники, но было поздно: книги и статьи оставались. И если о советской школе Сережа — поздний сын двух достойнейших людей, принадлежавших скорее девятнадцатому веку (его отец, биолог, родился в 1875 году), вспоминал как о «сумасшедшем доме», дальше стало происходить нечто странное. Власть, с ее обостренной чуткостью ко всему чуждому, именно его бесконечной ей чуждости не распознавала — он был слишком крупен для ее подслеповатого зрения. Словно в затмении, она награждала его премиями и отпускала в поездки за границу, куда в то время почти никто еще не ездил. Что, впрочем, не отменяло «сумасшедшего дома»: «Есть две вещи, абсолютно невозможные — не поздороваться, даже с противником, и попросить написать «на себя» рецензию. Сегодня ко мне подошла наша сотрудница и сделала и то, и другое». — «Почему мы возмущаемся, когда они нас не печатают — ведь мы же тоже не стали бы их печатать в наших журналах!» Он почти всегда выглядел как бы немного удивленным, словно не мог привыкнуть к безумию мира. Ветер, дувший в метро, которым он, выросший в центре Москвы, должен был после переезда на Юго-Запад пользоваться постоянно, был «инфернальным». «Интерпретатор», «комментатор» (но и ученый, и поэт), он не мог не быть и переводчиком, и я никогда не забуду, как мы вместе пытались преодолеть темноты библейской Книги Иова, поэтический перевод которой, сделанный Сережей, вошел в том с уклончивым названием «Поэзия древнего Востока» из стотомной «Библиотеки всемирной литературы». Не менее уклончиво — «От берегов Ефрата до берегов Босфора» — называлась и выпущенная им в советское время изумительная поэтическая антология, впоследствии дважды переизданная уже под почерпнутым из Евангелия названием «Многоценная жемчужина» — едва ли кто-нибудь, кроме Сережи, мог бы собрать, перевести и на ста страницах прокомментировать древние тексты, избранные из сочинений мало известных даже «в узком кругу» сирийских, египетских, каппадокийских, византийских авторов; в последнее же десятилетие он сосредоточился на переводе Нового Завета. Перу Аверинцева принадлежит около 800 работ, и даже самым специальным из его трудов свойственна своя поэзия: он говорил, что в статье не надо стараться «сказать все» — «статья должна быть как песенка…» Всеобщая болезнь ученого мира, хроническая занятость, не вызывала в нем тяги к отъединению, и когда я звонил ему, приезжая в Москву, не было, вероятно, случая, когда после первого вопроса — «Как ты?» — не следовал второй: «Когда ты к нам придешь?». Помню, как после одной из затянувшихся бесед Сережа, сокрушенно посмотрев на часы, сказал: «А ведь мне надобно сегодня еще что-то написать про “водичку”» — речь шла о статье для мифологической энциклопедии, для которой все мы тогда напряженно трудились. Некоторые его энциклопедические статьи, такие как «Филология», или «Риторика», или работы об иудео-христианском понятии «благоутробия», о символике золота в византийской культуре, давно стали классическими. Его книгу «Поэтика византийской литературы» успел оценить столь внутренне непохожий на него ученый, как Роман Якобсон, — обоих сближало то, что можно назвать «филологическим универсализмом», при котором глубинное проникновение в текст поверяется овладением всей сопутствующей этому тексту культурой, и vice versa. Он был как бы окружен сонмом созвучных ему авторов, с которыми вел диалог — в разное время это были, например, Гессе и Хейзинга, Честертон и Льюис, Тракль и Целан — кажется, это была строчка Целана, на которую он обратил внимание — о чайке, летящей с таким видом, словно ее зовут Эмма… Его захватывало «барочное» словотворчество Нонна Александрийского и ирландских монахов — авторов Hesperica Famina; как-то раз, когда я показал ему «лист мирового дерева» («мировых древес», говорил он) — гигантский высушенный узорный лист монстеры, или филодендрона, который я испещрил различными цитатами, он сразу же оттуда выхватил и долго повторял овидиево semibovemque virum, semivirumque bovem (о Минотавре). В русской же поэзии ему были особенно близки Вячеслав Иванов и Мандельштам, о которых он прекрасно писал. В последние годы он был увлечен тем, как меняются восприятие и значение одних и тех текстов в разных культурах, и замечательно показывал это на примерах Лафонтена — Крылова, и Одена — Бродского (который, боюсь, оставался для него отчасти «варваром» — однажды Сереже пришлось со свойственной ему — когда доходило до чего-то важного — непреклонностью с ним полемизировать на мандельштамовской конференции в Лондоне, когда тот, не долго думая, стал говорить о «римском гражданстве» Христа и якобы знании Им латинского языка). Но если филологию Аверинцев как-то раз назвал «службой понимания», если был предан ей неоглядно, то такое понимание, именно оттого, что стремление к нему было бескорыстно и самоценно, приоткрывало дверь в более широкое понимание — Божьего мира. Человек глубоко православный (гостя у меня в Петербурге, он всякий день ходил к ранней обедне), Сережа был чужд всякой узости и ценил подлинную богословскую мысль, в каком бы русле она не развивалась. Отвергая любые крайности, он, следуя за бл. Августином, говорил о будущем христианстве как нравственном сопротивлении меньшинства. Но когда в стране начались перемены, Сережа, преодолев привычное для всех нас отвращение к власти, вспомнил о «форуме» и о гражданских ценностях, и стал депутатом первой Думы. Как-то раз, после похорон некоего официального лица, на которых кто-то из бывших его клевретов сказал в своей речи, что «его невозможно представить себе в гробу», Сережа заметил, что тот был прав: действительно, облик того человека трудно было совместить с таинством смерти. Скорбя же об уходе Сергея Сергеевича Аверинцева, который не только составил эпоху в русской культуре, но и дал своей жизнью пример христианского служения и глубочайшей нравственности, я вспоминаю библейские слова об Иове, который умер, «насыщенный днями».
Михаил Мейлах, |
 Несколько лет назад я получил от Аверинцева из Вены одно из его каллиграфических писем, в котором были слова о том, что пора «додумывать недодуманное, дописывать недописанное». Вскоре после этого он приехал с Наташей в Страсбург — на одну из «благочестивых», как он выражался, конференций, и гуляя по Petite France, мы стали вспоминать наших учителей-античников. Сережа настаивал, что я должен написать о мудром Тронском, об изящнейшем Доватуре, об энциклопедически начитанном Зайцеве — но случилось так, что прежде чем я смог за это взяться, я пишу о самом Сереже, который умер в субботу 21 февраля после тяжелейшей болезни. Два месяца назад ему исполнилось 66 лет.
Несколько лет назад я получил от Аверинцева из Вены одно из его каллиграфических писем, в котором были слова о том, что пора «додумывать недодуманное, дописывать недописанное». Вскоре после этого он приехал с Наташей в Страсбург — на одну из «благочестивых», как он выражался, конференций, и гуляя по Petite France, мы стали вспоминать наших учителей-античников. Сережа настаивал, что я должен написать о мудром Тронском, об изящнейшем Доватуре, об энциклопедически начитанном Зайцеве — но случилось так, что прежде чем я смог за это взяться, я пишу о самом Сереже, который умер в субботу 21 февраля после тяжелейшей болезни. Два месяца назад ему исполнилось 66 лет.