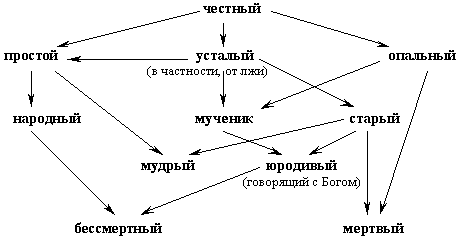|
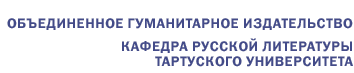 |
|
Часть I
Глава 1 I.1.1. Бродский в литературном контексте 50-х — 60-х гг. Литературный быт неофициальной молодежной поэтической культуры 50-х — 60-х годов в СССР можно рассматривать в связи с системой жанров поведения, разных амплуа. В эпоху «оттепели» появляется новый стереотип поведения, характеризующий прогрессивного молодого человека1 в рамках изменившейся культурной ситуации. Важным свойством советской молодежной культуры периода «оттепели» была ее осознанная двойственность. Эта культура имела как официальную сторону — поэты Вознесенский и Евтушенко, освоение космоса, пересмотр советской истории, зарождение студенческих стройотрядов, так и неофициальную — так называемый «андеграунд»2. Последний включал в себя самые разные явления — традиционные и нетрадиционные религии, литературу, находящуюся под запретом, подпольную коммерцию прежде всего как способ обмена информацией, культурно маркированные алкоголизм и даже наркоманию (Роальд Мандельштам) и т. п. Литература, в частности, поэзия, в обеих частях этой субкультуры занимала достаточно высокое место. Писание стихов представлялось одним из признаков определенного «жизненного жанра» наряду, например, с демонстративным поглощением тюри в здании Ленинградского государственного университета3. В соответствии с темой этой работы нас будет интересовать прежде всего литературная составляющая этой культуры. А в связи с тем, что после публикации стихов Рейна, Наймана и Бродского в «Синтаксисе» в 1960-м году доступ в официальную литературу для них был закрыт, особое внимание мы уделим так называемому «литературному андеграунду». Естественным было стремление молодых людей каким-то образом маркировать свою принадлежность к этой культуре. Это приводило к созданию целой системы поведенческих знаков, сигналов на самых разных уровнях бытового поведения — от одежды до сложных жестов наподобие поездки в геологическую экспедицию или занятия подпольной коммерцией. Вербальный уровень этой системы знаков характеризовался соответствующим жаргоном, словами-сигналами. Этот жаргон часто имел литературное происхождение. Кроме того, подобное маркирование могло также реализовываться на уровне минус-сигналов. В таком случае человек сознательно отказывался от определенной поведенческой модели, которая могла бы его неправильно позиционировать по отношению к предпочитаемой им молодежной культуре. Не читать тексты определенных авторов, не иметь постоянной работы, не интересоваться политикой — все это можно расценивать как такие минус-сигналы. Для поэта, находящегося внутри такой культуры, создаваемые им тексты являются такими же фактами поведения, жестами, как и все остальные его поступки. Следовательно, в текст должны быть инкорпорированы соответствующие сигналы. В самом простом виде эти сигналы могут выполнять коммуникативную функцию. Тогда их роль будут играть ориентированные на узкий круг читателей характерные словечки, цитаты, образы и мотивы (например, упоминания джазовой музыки и джазовых музыкантов у раннего Бродского)4. Более сложный случай мы наблюдаем, когда такие сигналы входят в художественную задачу текста. Тогда они уже реализуются не просто в виде «модных словечек» и ходовых bon mot, а в усложненном виде и на разных текстовых уровнях. Наиболее репрезентативный уровень — тематический. Литературный андеграунд, по мысли Кривулина, развивается в четырех направлениях, окруженных в официальной культуре того времени ореолом запретности:
2. эротика и порнография; 3. религиозная пропаганда; 4. «формалистическая» эстетика [Кривулин 1997: 347–348]. Можно описать тематический комплекс, актуальный для неофициальной литературы. Использование той или иной темы соответствующим образом маркирует текст и автора по принадлежности к ней. Список тем, входящих в такой комплекс, может быть обширным (среди табу, нарушаемых ранней лирикой Бродского, следует назвать еврейскую тему, тему страданий и смерти, тему одиночества и введение в лирику философских тем, традиционно относившихся советской критикой к разряду «идеалистических»)5. Не всегда автора интересовал сам предмет — упомянуть тему зачастую было гораздо важнее, чем раскрыть ее. Введение тех или иных тем, мотивов и образов становилось знаком, отличающим «своих», нежели выражением оригинальных мыслей. В качестве иллюстрации остановимся на первом пункте кривулинской классификации. В Ленинграде в 1964-м г. возникает клуб Рылеева, с появлением которого в СССР актуализируется понятие «подпольная литература» (в противовес литературному «андеграунду»). Клуб Рылеева, в частности, становится учредителем газеты «Русское слово», продолжающей традиции русской революционной печати [Савицкий: 23–24]. Несмотря на то, что «Русское слово» наследует традиции русской революции в целом, особое внимание к опыту именно декабристского движения показательно. Особенно важно, что и для 60-х гг. XX в. и для начала XIX в. было характерно различие между простым «фрондерством» и принципиальной политической оппозиционностью. Клуб Рылеева стоял у истоков правозащитного движения, к которому, по справедливому замечанию С. Савицкого, неофициальная литература не имеет прямого отношения6. Другими словами, критика существующего политического режима в художественном тексте начала 60-х гг. не означала оппозиционности его автора. Все это позволяет нам рассматривать культурное «подполье» как одну из весьма многочисленных стратегий поведения. Из отдельных высказываний Бродского, сделанных, кстати, достаточно поздно, видно, что он отчетливо отделяет себя от диссидентского движения, хотя в некоторых своих текстах (напр., в «Речи о пролитом молоке») может использовать их поведенческие сигналы, реализуя амплуа «подпольного поэта». Например, рассказывая о тюремном вагоне, который вез поэта по этапу в ссылку, он говорит:
Показательно, что система вербальных сигналов этой «литературной фронды», частью которой был Бродскиий, может быть описана теми же словами, которыми Ю. Лотман описывает речевое поведение участников «Зеленой лампы»: «Дело в смешении языка высокой политической и философской мысли, утонченной поэтической образности с площадной лексикой. Это создает особый, резко фамильярный стиль, характерный для писем Пушкина к членам «Зеленой лампы». Этот язык, богатый неожиданными совмещениями и стилистическими соседствами, становился своеобразным паролем, по которому узнавали «своего»» [Лотман Ю. 1992c: 324]. Для неофициальной поэзии, по замечанию Кривулина, кроме всего прочего характерно обращение к «формалистической» эстетике, подвергнутой уничтожающей критике в директивных документах и многочисленных официозных изданиях советской эпохи (особенно — в конце 40-х гг.) «Формалистическая эстетика» — явление сложное. На любом уровне текста могут присутствовать сигналы, указывающие на значимость для поэта выбранной им художественной формы. Приверженцем официозной культуры эти сигналы прочитываются как «идеологически чуждые» формальные эксперименты. «Лесенка» Белого/Маяковского, неклассическая метрика, верлибр, графопоэзия, нарушение графических традиций стиха — от несоблюдения правила большой буквы в начале стиха до асинтаксизма, минимализм, растягивание стиха и прочие приемы вплоть до зауми — все это, несмотря на разное происхождение, рассматривалось как часть единой системы. Причем, такое неразличение было характерно не только для официозных критиков, но и для «адептов» этой «эстетики». Как и в случае с тематикой, для многих современников Бродского (впрочем, как и для него самого) большинство формальных экспериментов были неорганичными, и часто в более зрелом возрасте поэты от них отказывались. Эти опыты были лишь атрибутами амплуа «неофициального поэта», необходимыми для построения ими своего «автобиографического текста». Для нас наиболее интересны поэтические сигналы, возникающие в точке пересечения тематической неординарности и «формального» эксперимента. Их выявление представляется наиболее сложным по нескольким причинам. Если общую тематику стихотворения можно понять даже в случае затемненности его содержания, а «внешняя оболочка» стихотворения (метрика, строфика, графическая реализация) распознается легче всего, то сигналы на других уровнях текста чаще всего скрыты для профанного читателя. Именно такие сигналы заставляют некоторых читателей чувствовать «чуждость» той или иной поэтики7, и в то же время ставит в тупик исследователей, пытающихся выделить основные признаки «андеграундной» поэтики8. Изучению таких сигналов у Бродского и посвящена эта часть работы. Подчеркнем, что все уровни текста находятся в тесной взаимосвязи и провести четкую границу между ними далеко не всегда возможно. Наша позиция заключается в убеждении, что до ссылки в Норенскую Бродский представлял себе строительство собственной поэтической биографии в виде неотъемлемой составляющей молодежной культуры литературного «андеграунда» 50-х — 60-х годов. В ссылке эта поведенческая установка у него поменялась9. I.1.2. Бродский в роли наследника Серебряного века Тяга поэтического процесса к социализации была также отголоском эпохи модернизма, подъем интереса к которому характеризует литературную жизнь конца 50-х — 60-х гг. Для творческой молодежи этого времени актуализируется не столько собственно сама поэтика модернизма, сколько его мифология, связанная с литературным бытом, кружками, салонами10 и т. д. Вот как тот же В. Кривулин описывает открытие «Кафе поэтов» в 1962 г.:
Особенную актуальность эта мифология получила для Бродского, который в 1961 г. знакомится с Ахматовой. Тем самым у Бродского появилась возможность узнать о литературном быте эпохи модернизма, что называется, из первых уст. В связи с этим знакомством мы должны осветить еще один момент. Ахматова как живой наследник эпохи модернизма создавала для поэтов, окружавших ее в последние годы жизни, такую атмосферу, в которой им также приходилось волей-неволей вписывать себя в модернистскую поведенческую парадигму. Не случайны ее замечания, например, насчет десяти поэтов, «не уступающих поэтам серебряного века». Применительно к Бродскому вспоминается фраза Ахматовой и Н. Мандельштам «Боже, как похож на Осипа!», подразумевавшая и внешнее сходство, и совпадение имен двух поэтов11. Соотнося себя с модернистской литературной традицией, молодой поэт начинал соответствующим образом выстраивать и свое поведение12. Именно это заставляет нас видеть в текстах Бродского, ориентированных на модернистскую поэтику, не только совокупность реминисценций, но и определенный поэтический жест. Бродский пишет стихотворения обращенные к Ахматовой и посвященные ей, оба поэта заимствуют друг у друга строчки для эпиграфов к своим стихам. Эту своеобразную литературную игру Бродский явно уже рассматривает прежде всего как продолжение литературного процесса начала века, а себя — как наследника поэтического движения эпохи модернизма13. Это представление о себе как преемнике литературных традиций Серебряного века отразилось в стихотворении 1972 г. «Сретенье»14. Таким образом, внушенная Ахматовой Бродскому мысль о том, что он является преемником традиций Серебряного века заставляет поэта проецировать собственную литературную стратегию на поэтическое поведение писателей начала XX в. Обнаруживая близость этих литературных ситуаций, Бродский придумывает для себя некоторые закономерности в литературном процессе вообще. По его представлениям, существует инвариантная иерархическая схема распределения ролей в любой литературной ситуации, которая повторяется в периоды поэтического расцвета, будь то пушкинская эпоха, Серебряный век или 50-е — 60-е гг. двадцатого столетия. Сам поэт говорит об этом в беседе с С. Волковым. Здесь, однако, следует учитывать тот факт, что закономерности, которые Бродский ретроспективно описывает — довольно поздние и во многом выстроены задним числом. Однако мы склонны считать, что сам принцип описания этих закономерностей был актуален для поэта уже в начале 60-х годов. На наш взгляд, именно общение поэта с Ахматовой стали толчком для формирования у него этих представлений. Не случайно в беседе с С. Волковым поэт говорит об этом именно в контексте воспоминаний о своих встречах с Ахматовой:
По представлению Бродского эта иерархия выглядит следующим образом: существует «первый поэт» (Пушкин в XIX в. и Рейн в середине XX в.), а вокруг них формируется поэтическая группа, где каждый поэт играет свою роль: «остроумец» Вяземский — Найман, «патетический поэт» Дельвиг — Бобышев. Кроме того, есть роль «лучшего, но непризнанного поэта». В XIX в. это Баратынский а в современности — сам Бродский. Подобная иерархия характеризует, по мысли поэта и литературную ситуацию Серебряного века:
В начале XX в. место «лучшего, но непризнанного поэта» принадлежит Мандельштаму. «Пушкинскую» же роль он явно приписывает Блоку, несмотря на то, что в вышеприведенном отрывке он дает ложное указание на Гумилева. Это становится понятным из следующих слов Бродского:
В итоге Бродский придумывает для себя амплуа «лучшего, но непризнанного поэта», которое диктует ему определенную стратегию поведения16. Так у Бродского появляется некоторая противоречивость в самоопределении своей литературной позиции. С одной стороны — он «современный андеграундный поэт», входящий в актуальную молодежную культуру. С другой — он благословленный Ахматовой продолжатель модернистских поэтических традиций. I.1.3. «Автобиографический текст» Бродского Далее предметом рассмотрения будет не стратегия поэтического поведения, а способы репрезентации биографических фактов в лирике. При этом биографические «факты» являются здесь материалом для построения структуры особого типа, захватывающей разные сферы деятельности (собственно художественные тексты, синхронные и ретроспективные непоэтические автометаописания). Эту структуру мы условно называем «автобиографическим текстом». Реальные события можно рассматривать здесь как строительный материал (подобно тому, как естественный язык является строительным материалом для художественных текстов). Это односторонняя аналогия. Причиной тому служит различие между естественным языком и жизнью поэта, рассматриваемой как материал для построения «автобиографического текста». Различие это заключается в способности «автобиографического текста» «порождать» жизненные факты: обусловливать те или иные поступки автора и выбор им тех или иных стратегий поведения. Такой обратной связи не наблюдается у художественного языка по отношению к языку естественному. Ссылка в Норенское имела особое значение для создания «автобиографического текста» Бродского. Нам представляется, что в описываемый период происходит кардинальный перелом в выстраивании поэтом стратегии своего поэтического поведения. Как нам кажется, до ссылки эта стратегия еще отчетливо не оформилась для поэта. Ранний Бродский как бы колеблется между двумя полюсами (назовем их полюсами «чужого слова» и «авторской идентичности»), что и определяет его позицию в то или иное время. Это проявляется в его текстах до 1964 г. С одной стороны, он пытается продемонстрировать свою причастность к разным поэтическим традициям. Отсюда — определенное количество ранних подражательных текстов (то, что сам поэт позднее называл «киндергартеном»), в которых для самовыражения используются чужие поэтические манеры. По словам Е. Рейна, Бродский «проходит через бесконечный ряд этапов, всех пережевывая и выходя вперед. Он пропускает через себя бесконечное число влияний, расшелушивает поэтов, как семечки, и продвигается дальше» [Рейн 1994: 187]. Изучению проблемы влияний17 разных традиций на раннего Бродского (1958–1965 гг.) уделяет внимание в своей работе В. Куллэ [Куллэ 1996]. Перечисляя авторов, чьи творческие манеры наиболее повлияли на Бродского в 1957–1960 гг., Куллэ называет: Ф. Г. Лорку («Критерии», «Определение поэзии»), К. Рицоса («Камни на земле»), Н. Хикмета («Стихи об испанце Мигуэле Сервете, еретике, сожженном кальвинистами», «Книга»), М. Цветаеву («Стихи под эпиграфом»). Кроме того, Куллэ выделяет стихи «условно-маяковской» ориентации («Гладиаторы», «Художник»). С ростом поэтической самостоятельности Бродский начинает, согласно Куллэ, избавляться от подражательности, но она, тем не менее, остается. Стратегия поведения в данном случае заключается в том, что поэт позиционирует себя как «один из». Тем самым поэт отрицает свою индивидуальность, а проблема поэтического поведения вообще снимается. Обозначим эту стратегию как полюс чужого слова. С другой стороны, Бродский стремится построить оригинальный «автобиографический текст». Этот полюс мы обозначим как полюс авторской идентичности. Стремление к индивидуальности у Бродского основывается на убеждении в неразрывной связи и взаимовлиянии жизни и творчества писателя. Реализация автобиографизма заставляет поэта выработать систему знаков на уровне поэтики текста, которые отсылали бы читателя к внетекстовой реальности, связанной с личностью самого Бродского. В связи с тем, что ранний Бродский пытается создавать свою литературную биографию, он выбирает для себя некоторые модели поведения в будущем. Поэтому многие тексты носят отпечаток программности, являясь своеобразным набором правил «как себя вести поэту»18. В 1962 г. начинается и отчетливо проявляется к 1964 г. другая стратегия поведения Бродского — ретроспективная. Каждое стихотворение рассматривается как последнее. Следовательно, с точки зрения поэтики поведения, стихотворения становятся не элементами строения поведенческого текста, а обозначением верхней его границы и одновременно кодом, ключом к интерпретации всей уже сложившейся биографии. Именно это изменение поведенческой стратегии натолкнуло В. Куллэ на мысль связать эволюцию поэтики Бродского [Куллэ 1996] с концепцией Ю. М. Лотмана о самоописании и самосознании культуры [Лотман Ю. 1992e: 267]. Эту разницу в самоопределении поэта заметил также Лев Лосев, который, опираясь на два его цикла — «Песни счастливой зимы» и «Часть речи», выделяет у Бродского два основных периода творчества, а также пытается выделить у поэта субстрат чистой лирики, максимальное приближение к которому он находит в поименованных циклах [Лосев А.]. Переходя от программности к ретроспективности, Бродский тем самым осуществляет отход от полюса «чужого слова». Он больше не стремится позиционировать себя как «одного из», а пытается представить свою автобиографию как уникальный текст. В результате, когда речь заходит о реальных текстах, в каждом из которых a priori ощущается действие обоих полюсов, мы наблюдаем интересное взаимодействие «чужого слова» и собственных поэтических интенций, столь активно изучаемое нынче исследователями творчества поэта. В итоге мы получаем сложный текст, где, с одной стороны, поэту приходится ссылаться на чье-то авторитетное слово, а с другой — утверждать свою самостоятельность. В Норенской меняется угол зрения поэта на полюс «авторской идентичности». По представлению Бродского, биография уже построена. Каждый последующий текст является не реализацией программы поведения, а составляющей частью «автобиографического текста». Это сближает стихотворения с традицией элегии19. Такая обращенность в прошлое становится основой для создания автомифов, что роднит стихотворения интересующего нас периода также с мемуарами20. Таким образом, в Норенской у Бродского меняется представление о полюсе «авторской идентичности». В связи с этим трансформируется также представление о полюсе «чужого слова». Этот полюс становится более условным, граница между своим и чужим словом размывается. В связи с этим для нас актуализируется проблема выделения элементов «автобиографического текста» в ранних стихотворениях Бродского. Поскольку, с точки зрения поэта, его биография завершилась, он может использовать чужие поэтические средства для описания собственной биографии. В ссылке Бродский начинает осознавать себя состоявшимся поэтом, поэтом «с биографией», что позволяет ему не бояться подражательности в своих стихах21. Только при таком взгляде Бродский мог написать, например, «На объективность. Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром». Кроме того, в Норенской переосмысление Бродским системы поэтических жанров22. Например, пейзажная лирика сближается с философской и приобретает автобиографический характер. Взаимопроникновение жанров элегии, баллады, послания, трансформация твердых форм — все это результат неразличения своего и «чужого слова». Бродский может реализовывать отсылки (истинные или ложные) к чужому тексту также и на жанровом уровне, в результате чего порой возникает достаточно сложная интертекстуальная игра. Надо сказать, что эти изменения в представлениях Бродского дополнялись изменением его статуса в тогдашней поэтической ситуации и повышением интереса к его судьбе со стороны не только собратьев по цеху, но и широкой читательской аудитории. В этом смысле оправданы слова Ахматовой, сказанные в адрес Бродского: «Какую биографию творят нашему рыжему! Как будто он нарочно кого-то нанял» [Найман 1989: 10]. В связи с «автобиографическим текстом» Бродского для нас также будут важны понятия маски и амплуа, которые мы считаем нужным разделить. Маской мы будем называть определенное лицо (историческое или мифологическое), от чьего лица Бродский в данный момент говорит. Амплуа мы будем называть устойчивую модель поэтического поведения. Маска и амплуа — взаимосвязанные феномены. Допустим, если поэт говорит от лица Овидия, он одновременно выступает в амплуа «опального поэта». Выбор Бродским разных амплуа позволял типологически связать окружавший поэта литературный быт с поэтической традицией. В случае Бродского интересно то, что в Норенской, отказываясь от одних амплуа (см. I.2.), он одновременно отказывается от строительства литературной биографии. Другие амплуа (см. I.4.) он приписывает себе задним числом, для того чтобы его «автобиографический текст» приобрел законченность.
Глава 2 Бродский строит свой «автобиографический текст» из отсылок к тем ранним стихотворениям, которые выполняли функцию жеста, сигнализируя о том, что автор выступает в том или ином литературном амплуа. Иными словами, эти тексты как жесты были важны для поэтического поведения автора. Ниже мы будем рассматривать «театральный комплекс», т. е. ряд стихотворений Бродского, в которых используется театральная атрибутика в связи с проблемой литературных масок и амплуа у поэта. Далее мы проследим, как «театральный комплекс» порождает полифонию в стихах Бродского. Таким образом, эта глава посвящена изучению «театрального комплекса», а первая глава второй части работы — изучению полифоничности текстов Бродского как самостоятельного явления. Иначе говоря, эти главы рассматривают одно явление с разных точек зрения. I.2.1. Полифоничность стихотворения и театральная атрибутика Большинство критиков при сравнении стихотворений, написанных Бродским до ссылки, с текстами, созданными в Норенской отмечают утрату эмоциональности его стихов. Именно в ссылке у поэта возникает пресловутый «романтический холод» [Кушнер: 7] и «аннигиляция языка» [Найман 1990: 198]. Однако «эмоциональность» — понятие, реализующееся на разных уровнях текста — как на языковом (экспрессивность, стилистическая окрашенность), так и на уровне строения текста (установка на внутренний диалог, полифоничность текста). Ниже мы будем рассматривать эту «эмоциональность» с точки зрения стратегии поэтического поведения как сознательную установку автора. Это приводит нас к исследованию того, от чьего лица в тот или иной момент говорит повествователь и какой поэтический язык он вследствие этого для себя выбирает23. Такое сосуществование разных поэтических языков в рамках одного текста мы будем называть полифоничностью24. Эта полифоничность может проявляться на разных уровнях текста: на уровне композиции — сосуществование нескольких точек зрения; в виде стилистической неоднородности (или «полистилистичности»25) стихотворения, наконец, в виде идеологического полифонизма. Уже в ранних стихах Бродского мы можем заметить интерес поэта к теме театра, использование театральной атрибутики, «гамлетизм», наконец, размывание границы между лирическим и драматическим в отдельных случаях. Мы полагаем, что полифоничность является результатом реализации этого «театрального» комплекса в поэзии Бродского. Таким образом полифоничность характеризует те стихотворения Бродского, в которых появляется театральная атрибутика, связывающая их с темой театра вообще или с каким-то конкретным драматическим произведением в частности. Бродский пытается реализовать драматическое начало на разных уровнях лирического текста. Таким стихотворениям становится свойственно размывание границы лирического и драматического. Поскольку основной нашей задачей является исследование полифоничности, то театральную атрибутику в стихах Бродского мы будем рассматривать только как указание на многоголосие в тексте. Написание поэмы-мистерии «Шествие» стало одной из первых попыток Бродского смешать жанры пьесы и поэмы. В этом тексте активное использование театральной атрибутики сочетается с драматическими композиционными приемами. Бродский сам указывает на это в авторском предуведомлении к поэме: Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она — гимн баналу.
Особого внимания заслуживает указание Бродского на экспрессию при произнесении романсов. Это лишний раз подчеркивает, что театральный комплекс для поэта был тесно связан с проблемой экспрессивности в поэзии. Поэма-мистерия26 представляет собой пеструю череду портретов, сменяющих друг друга с калейдоскопической быстротой. Эти портреты подчеркнуто эмоциональны, театрализованы, рассказчик порой переигрывает. Впоследствии Бродский довольно низко оценивал этот текст («Ну, по молодости лет я написал эту ахинею — «Шествие»» [Бродский 1998: 227]). На наш взгляд, создавая поэму, Бродский решал важную для себя задачу: выбранный жанр позволял ему выступить в разных амплуа, примерить на повествователя разные маски. В начале творческого пути Бродского, когда писалось «Шествие», для него обострилась проблема выбора собственного поэтического языка. Поэт, что называется, «искал себя», поочередно используя языковые и стилистические средства, свойственные разным литературным традициям. Отражением этого поиска становится полифоничность в «Шествии». Поэма отчетливо ориентирована на драматическое произведение, где баллады и романсы выступают в функции реплик и монологов, а авторские комментарии — в функции авторских ремарок. При этом объем «ремарок» непропорционально велик. Впрочем, на синкретизм «Шествия» указывает уже авторское жанровое определение поэма-мистерия. Такие драматизированные тексты составляют у Бродского отдельный круг, охватывающий все его творчество: в 60-е годы — «Горбунов и Горчаков», «Посвящается Ялте», в 80-е — «Представление», «Мрамор»27. Кроме того, что поэма отражает поиски автором индивидуальной литературной позиции, большое место в этом тексте уделено рефлексии повествователя и героев на тему искренности/честности в поэзии. Подробнее на проблеме честного поэта в «Шествии» мы остановимся в главе I.4. Здесь укажем лишь, что знаком многоголосия в поэме оказывается стилистическая маркированность стихов. Так, в наиболее «игровой» части поэмы — в балладе и романсе Лжеца — Бродский стилизует язык этого персонажа под обобщенный «язык русского символизма», прозрачно намекая на брюсовское «Творчество». Потом, в комментарии именно слог (т. е. стиль, поэтический язык) становится предметом рефлексии повествователя, за которым угадывается сам автор: «Да, о Лжеце. Там современный слог / И легкий крик…» [I: 109]. Экспрессивная окрашенность сопровождается выбором стилевых средств (в смысле литературных стилей)28. Характерно, что начинается баллада Лжеца словами:
Какую маску надевает совесть на старый лик, в каком она наряде появится сегодня в маскараде…29 [I: 106]. Повествователю «Комментариев», который говорит от лица автора, свойственна установка на «искренность» и лиризм. В поэтическом языке этих фрагментов поэмы такая установка проявляется в виде «нейтрального» стиля, порой заставляющего думать об отказе автора от всякого стиля. Для баллад и романсов же, наоборот, характерно стремление автора отделить себя от повествующего персонажа, что отражается и на поэтическом языке. В тексте появляется стилевое многоголосие. Повествователь в одном случае подчеркивает стилистическую зависимость от традиции, а в другом — старательно ее затушевывает. Иначе говоря, в одном случае повествователь тяготеет к полюсу чужого слова, а в другом — к полюсу авторской идентичности. В романсах и балладах поэмы Бродский говорит от чужого лица чужим языком. Знаки на уровне поэтического языка становятся жестами. На уровне композиции в «Шествии», пожалуй, впервые было реализовано разделение повествователя и лирического героя (подробнее об этом см. в главе II.1.) После 1964 г. этот композиционный механизм продолжал функционировать в текстах Бродского вне театрального комплекса. Ниже мы рассмотрим театральный комплекс у раннего Бродского. В этой связи нам представляется важным исследование И. Чекалова, посвященное традиции русского «шекспиризма» и его роли в литературной полемике символизма и акмеизма [Чекалов]. По его словам, именно акмеисты ввели шекспировские традиции в арсенал поэтических средств русской модернистской культуры. По Чекалову, для классической русской литературы были важны только идейные коллизии, так называемые «проклятые вопросы», поднятые английским драматургом. Поэтике Шекспира в России в XIX в. не уделялось должного внимания30. Не в последнюю очередь такое непонимание было обусловлено неприятием поэтического языка Шекспира. Так, о неприемлемости эвфуизмов в русской традиции говорит А. Дружинин в своих пояснениях к переводу шекспировских трагедий:
Только к началу XX в. в России поэтический язык Шекспира и его современников перестал восприниматься как абсолютно чужеродный, а Бродский попытался «трансплантировать» его на русскую почву. Показательна здесь разница между гумилевской и блоковской «шекспириадами», обнаруженная Чекаловым. В стихотворениях Гумилева, затрагивающих тематику пьес Шекспира, в отличие от блоковских, лирическое «я» словно расщепляется на рассказчика и персонажей, что позволяет сделать персонажа не только объектом творчества, но и творящим субъектом. Это то, что Л. Гинзбург назвала опосредствованным лирическим сюжетом, и то, что для Жирмунского виделось как основная черта акмеизма — «<…> точную, мало искаженную субъективным душевным и эстетическим опытом передачу раздельных и отчетливых впечатлений преимущественно внешней жизни, а также и жизни душевной, воспринимаемой с внешней, наиболее раздельной и отчетливой стороны» [Жирмунский: 123]. Определяющей для акмеистов стала статья И. Анненского «Проблема Гамлета»31. В ней автор «Книги отражений» акцентирует внимание на Шекспире-лирике, стоящем за фигурой Шекспира-драматурга. Из этого он делает и обратный вывод — «<…> о драматургической сердцевине лирической поэзии» [Чекалов: 101–102]32. Такое взаимопроникновение драмы и лирики становится важным для понимания полифоничности у Бродского. Для поэтики Мандельштама важна система масок, обеспечивающая игру я — не я. В статье о Вийоне он писал о способности поэта «к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога» [Мандельштам: II, 138]. В связи с этим расщеплением Мандельштам вводит также мотив двуполости, гермафродитизма лирического поэта, что отразится в таких норенских стихотворениях Бродского, как «Чаша со змейкой» и «Мужчина, засыпающий один…». Характерно, что в последнем тексте последовательно реализуется поэтика разделения повествователя и лирического героя (см. II.1.) Мир призраков, с которыми беседует герой стихотворения, отсылают к интерпретации Анненским образа Гамлета, который сам создает своих персонажей. Проблематику расщепления лирического поэта затрагивает и другая статья Мандельштама — «О собеседнике» [Мандельштам: II, 145–150], которая вообще имеет особое значение для Бродского. При реализации «расщепления» лирического «я» в стихах Бродского важную роль играют ирония и автоирония, которые занимают столь существенное место в шекспировской поэтике. Обычно Шекспир вводит в действие оппозиционные пары «высоких» (трагических) и «низких» (комических) персонажей. Интерпретация событий поэтому чаще всего бывает двойная — что предполагает момент автоиронии, амбивалентность и полистилистичность. Эта особенность важна для Бродского, начиная с ранних его стихотворений. Пастернаковский перевод «Гамлета» всегда расценивался как наиболее подходящий для театра33. Вспомним в связи с этим известную фразу Ахматовой в пересказе Чуковской: «Перевод Лозинского лучше читать как книгу, а перевод Пастернака лучше слушать со сцены»34. Теперь остановимся непосредственно на «шекспировском комплексе» у Бродского. Шекспир и его персонажи у Бродского встречаются только в ранних текстах, написанных еще до близкого знакомства с английской метафизической поэзией35. Эпиграфом из 27-го сонета в переводе Маршака предваряется одно из самых ярких ранних стихотворений Бродского — «Пилигримы» (1958 г.) Вообще сонетная форма актуальна для Бродского именно в связи с шекспировской традицией36. Театральный комплекс не теряет своей актуальности для Бродского и в ссылке, хотя из стихов этого периода театральная атрибутика пропадает. В этой связи особый интерес для нас представляет письмо Бродского Я. Гордину, датированное 13 июня 1965 г.:
Из сказанного выше важным для нас представляется высказывание Бродского о приоритете композиции. В поздних эссе поэт говорит о том, что «поэзия — искусство безнадежно семантическое» [Бродский 1990b: 202]38, а музыка, законы композиции для которой важнее содержания — наоборот, «главным образом несемантична» [Бродский соч.: VI, 87]. Несмотря на это, композиционный принцип оставался для него приоритетным на протяжении всего творчества. (Изучению композиции норенских стихотворений Бродского посвящена глава II.1.) I.2.2. Образ Офелии и лирический герой Бродского В предуведомлении к «Шествию» автор отсылает нас именно к третьему, центральному акту «Гамлета», в котором происходят важные события: монолог «быть или не быть», разговор Гамлета с Офелией, представление пьесы «Мышеловка», диалог Гамлета с матерью, убийство Полония. Однако нам представляется, что основное внимание Бродского было все же приковано к четвертому акту. Уже судя по «Романсу принца Гамлета», для Бродского был актуален пастернаковский перевод этой шекспировской пьесы39. На это указывает, в частности, глагол «лепечет»: «<…> когда давно Офелия моя / лепечет языком небытия», отсылающий к началу пятой сцены четвертого акта, где Горацио говорит Гертруде про сумасшедшую Офелию: «Без основанья злится и лепечет / Бессмыслицу» [Шекспир 1941: 118]40. Это же место у М. Лозинского выглядит так: «И сердится легко; в ее речах — / Лишь полусмысл…» [Шекспир 1960: 111]. На пастернаковское «происхождение» шекспировской атрибутики в «Шествии» указывает также слово дружок, употребляемое в последнем комментарии поэмы («Стучит машинка. Вот и все, дружок»). Несомненно, оно отсылает нас к излюбленному словечку безумной Офелии в четвертом акте в пятой сцене: «Вот розмарин, это для памятливости: возьмите, дружок, и помните. А это анютины глазки: это чтоб думать» [Шекспир 1941: 125] — из разговора Офелии с братом. Разговаривая с Гертрудой, Офелия поет:
Вашего дружка? Шлык паломника на нем, Странника клюка [Шекспир 1941: 119]41. В переводе М. Лозинского в обоих случаях употребляется слово милый. Слово «дружок» в «Шествии» появляется также в «Романсе для Крысолова и Хора» («…вечный мальчик, / любовник, / дружок…» [I: 144]). Финал «Шествия» вполне сопоставим с авторской ремаркой в финале «Гамлета»: «Похоронный марш. Уходят, унося трупы, после чего раздается пушечный залп» [Шекспир 1941: 168]. Колокольный звон перекликается с похоронным маршем. Мотив молчания персонажей в финале поэмы соотносится с последними репликами в «Гамлете» («Дальнейшее — молчанье»). Стук машинки служит аналогом пушечного залпа. Строчка «<…> шаги моих прохожих замело…» дает отсылку к эпизоду выноса трупов в финале трагедии. Колокольный звон может также коррелировать со словами Офелии, понимающей, что Гамлет сошел с ума: «Теперь, когда могучий этот разум, / Как колокол надбитый, дребезжит…») [Шекспир 1941: 77]42, а также с сообщением священника о том что Офелию хоронили с колокольным звоном. С этой точки зрения «Романс принца Гамлета», фактически завершающий череду монологов «Шествия», можно рассматривать как эксплуатацию своеобразного «приема Офелии»: лирический герой романса совершает комически-безумный перифраз трагедийной коллизии. В этом стихотворении ощущается также влияние пастернаковского «Гамлета» из романа «Доктор Живаго»43. По словам В. Кривулина, пик популярности «Стихов из романа» приходится на вторую половину 50-х — начало 60-х годов44. Бродский не мог в конце 1961 г. находиться в стороне от этой литературной моды. Из пастернаковского стихотворения Бродский заимствует способность лирического героя занимать позицию метаописателя: «Когда-нибудь и мне такая роль… / А впрочем — нет…» (ср. у Пастернака: «Но сейчас идет другая драма, / И на этот раз меня уволь» [Пастернак 1990: II, 56]); «Далеко ль до конца, ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР?» [I: 147]. После «Шествия» слово «дружок» мы снова встречаем в «Стансах» («Ни страны, ни погоста»), написанных в следующем 1962 г. Близость к шекспировскому тексту здесь подчеркивается драматическим сюжетом стихотворения, а фраза «девочек-сестер» на прощанье умирающему «мальчику» — «до свиданья, дружок!» [I: 225] может рассматриваться как отсылка к образу Офелии и ее «безумным песенкам». Отдельного внимания в этом отношении заслуживает стихотворение «Черные города…» (1962–1963) [I: 241–242]. Стихотворение написано трехиктным дольником. Однако этот размер у Бродского имеет амбивалентную ритмическую природу, что позволяет прочитывать его также как двухиктный тактовик. Мы исследовали подобное явление применительно к поздним стихам Бродского [Семенов 1998]. Двухиктный тактовик, по замечанию Гаспарова [Гаспаров 2000: 279–280], стал особенно популярным в советской поэзии благодаря его частушечному происхождению. Пастернак переводил песенки Офелии хореем с урегулированным чередованием четырех- и трехиктных строк:
Помер, только слег, В головах зеленый дрок, Камушек у ног [Шекспир 1941: 119]. Пастернак отчетливо ассоциирует этот размер с размером русской частушки. Стоит вспомнить хотя бы его стихотворение «Свадьба» 1953 г.:
Говорок частушки Прямо к спящим на кровать Сорвался с пирушки [Пастернак 1990: II, 65]. Однако этот размер, а именно: чередование длинных четырехиктных и коротких трехиктных строк, отсылает нас также к балладным размерам. По замечанию того же Гаспарова, урегулированное чередование четырех- и трехиктных стихов в классических размерах рассматривается поэтической традицией, начиная с Жуковского, как русский аналог германского балладного септинария [Гаспаров 2000: 125–127]45. Пастернак как будто сплавляет традиции западноевропейской баллады и русской фольклорной комической наррации, что придает «семантическому ореолу»46 размера дополнительную коннотацию ненормальности, «безумия». Несмотря на кажущуюся «далековатость» двухиктного тактовика и Х4347, генетически они очень близки. Не случайно, оба они достаточно хорошо ложатся на канонический частушечный мотив. Мы предполагаем, что при формировании этой ритмической инерции Бродский во многом ориентируется как раз на песенки Офелии. Кроме того, в стихотворении «Черные города…» [I: 241–242] мы усматриваем некоторую тематическую близость с песнями Офелии. Это, например, обилие образов, связанных с водной стихией стихотворении (сапожок <…> чавкать приговорен, мотивы слезы, росы, мотив сливания с пейзажем и растворения), вполне корреспондируют с «водными» мотивами в сценах, сопровождающих сумасшествие Офелии. Вспомним слезы, которые она проливает в пьесе, и слезы, которые появляются в ее песенках («И лицо поднять от слез / Мне невмоготу» [Шекспир 1941: 119], «Ручьями слезы в гроб текли…» [Шекспир 1941: 125]). Лаэрт в конце седьмой сцены указывает на обилие влаги, подчеркивая, что вода символизирует женское, хтоническое начало, и, в свою очередь, удивляется своим слезам:
Воды, чтоб доливать ее слезами. Но как сдержать их? Несмотря на стыд, Природа льет их. Ими вон исходит Все бабье в нас. Прощайте, государь. В душе пожар, а эта дурья слабость Мне портит все [Шекспир 1941: 135]. Бродский в стихотворении также подчеркивает, что лирический герой плачет впервые («<…> что для слезы впервой…»), причем здесь соотносятся также мотивы пожара (сгоревший Феникс48), заливаемого слезами («Впрочем, итог разрух — / С фениксом схожий смрад»). Наконец, мотив утопленничества просматривается в финальных строчках: «<…> чтобы не только бог /<…> / слиться с пейзажем мог / и раствориться в нем». Заслуживают также внимания упоминания лебеды и строчки «Вдохновлены травой, / мы делаемся как все…», которые указывают на «травяной» аспект офелианского комплекса. Мотив грязи, к прозябанию в которой приговорен лирический герой, указывает на то место в диалоге Гамлета с Гильденстерном, где первый обвиняет второго в желании им манипулировать: «Смотрите же, с какой грязью вы меня смешали!» [Шекспир 1941: 94], а также на разговоры Гамлета с могильщиком в пятом акте трагедии49. В норенских текстах «травяная» тематика будет продолжена Бродским в стихотворении «Колокольчик звенит…» 1965 г. [I: 426]. Все стихотворение строится как сознательная отсылка к образу Офелии. Перечисление трав отчетливо повторяет соответствующие реплики безумной героини «Гамлета»:
<…> Вот укроп для вас, вот водосбор50. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать богородичной травой. В отличье от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец [Шекспир 1941: 125]. Сравним их со стихами из второй строфы стихотворения Бродского:
злаков пользует грудь от удушья. Кашка, сумка пастушья от любых болевых ощущений зрачок в одночасье готовы избавить [I: 426]. В обeих цитатах перечисляются полевые цветы. Сам образ шута в стихотворении «Колокольчик звенит…», хоронящегося «…под защитой / травяного щита…» есть контаминация образов Офелии, Гамлета и Йорика. Заметим, что в этом стихотворении, написанном двухстопным анапестом с тремя строчками анапеста трехстопного и одной строкой двухстопного амфибрахия, отдаленно сохраняется ритмическая инерция двухиктного тактовика, которая наметилась еще в стихотворении «Черные города…». Ритмически это стихотворение напоминает еще один пастернаковский текст — поэму «Девятьсот пятый год»51. Мотив колокольчика, кроме указания на непременный атрибут шутовского колпака, отсылает нас к колокольному звону, под который, вопреки правилам погребения самоубийц, хоронили Офелию в пьесе английского драматурга. Как мы уже сказали, сам образ лирического героя-шута в стихотворении отсылает к образу Офелии. Надевая костюм шута, герой, таким образом, претендует на маркированную особым образом речь — речь безумца. При этом наблюдается не только тяготение к «безумству литературному», но и к «безумству театральному»52:
Но об этом — молчок, чтоб другим не во вред (всюду уши: и справа, и слева) [I: 426]. В связи с «театральным безумством» отдельного внимания заслуживает костюм шута, в который рядится лирический герой. Шут в западноевропейской традиции — аналог юродивого/безумца, устами которого «глаголет истина». В статье Н. Зубовой53 исследуется различие между клоунами и шутами в шекспировских пьесах. Если клоун — комик, задача которого просто рассмешить зрителя, то шут выполняет функцию сатирика, мудреца под маской безумца. Остановимся на композиции этого стихотворения. Оно состоит из трех строф и представляет собой монолог лирического героя. Однако между первыми двумя строфами и последней можно заметить существенное различие. В первых двух строфах лирический герой и повествователь не разделены. Сначала повествователь рассказывает о растениях, а потом обращается к читателю, которого называет дружок. Первые две строфы напоминают структуру басни: повествование + поучение, мораль («Лишь пучку курослепа / доверяешь секрет»). Однако в этом случае становится непонятной функция последней строфы. В ней впервые появляется я. Одновременно с этим появляется элемент наррации («Я на год постарел…») и автометаописания («от жестокости многоочитой / хоронюсь под защитой / травяного щита»). Основная функция этой строфы — отделить слова «разумного» повествователя здесь от монолога «безумного» лирического героя в первых двух строфах. «Безумство» героя подчеркивается и оксюморонным образом травяного щита. Сочетание особенностей композиции с полистилистичностью, приводит к появлению полифонии на разных уровнях этого текста. Кроме того, стихотворение может прочитываться как развертывание поговорки «Жизнь прожить — не поле перейти…», которая отсылает нас к известному пастернаковскому тексту [Пастернак 1990: II, 56], а в конечном итоге — опять-таки к «Гамлету».
В композиции стихотворения «Как славно вечером в избе…» 1965 г. К «корпусу Офелии» [I: 438] мы склонны также относить стихотворение «Под занавес» 1965 г. Написано оно незадолго до возвращения из ссылки, поводом к написанию стихотворения послужило скорее всего известие о возможном скором освобождении. Кроме того, что в названии стихотворения Бродский напрямую обращается к театральной тематике, он еще пишет этот текст двухстопным анапестом, что отсылает нас к стихотворениям «Черные города…» и «Колокольчик звенит…», размер которых отсылает читателя к «Офелиевой частушке». Также здесь наблюдаются и сюжетные параллели с пятой сценой четвертого акта «Гамлета»: безумный герой раздает свое «имущество», накопленное в ссылке:
но в душе — скандалист, отдает за полтинник — за оранжевый лист — свои струпья и репья, все вериги — вразвес, — деревушки отрепья, благолепье небес [I: 438]. Герой, раздающий струпья и репья за оранжевый лист, именует себя в последней строфе песнопевцем листвы, каковой была и безумная Офелия. При этом герой отмечает, что его «пустынничество» было лишь маской, театром. Возможно, возникающая здесь же чаша пришла из пастернаковского стихотворения «Гамлет», которое отсылает к евангелькому «Молению о Чаше»:
он, не чувствуя ног, устремляется в чащу, словно в шумный шинок… [I: 438]. Несмотря на посвящение Ахматовой, дающее ложное указание на традицию акмеизма, весь текст строится на отсылках к пастернаковскому «мессианско-гамлетическому» комплексу. Интересно, что здесь поэт не говорит о своем пребывании в ссылке как об изгнанничестве, хотя он и употребляет при этом слово «чужбина». Разлука с родиной рассматривается им как род аскезы (пустынник, струпья, вериги, разговенье), что говорит в пользу интерпретации Бродским ссылки как «ухода из мира». У позднего Бродского обращение «дружок» снова встречается в стихотворении «Строфы» 1978 г. [II: 455–461]. Стихотворению, размер которого можно охарактеризовать как переходную метрическую форму, свойственно ритмическое напряжение между трехстопным дактилем, трехиктным дольником и двухиктным тактовиком. Характерно, что оно адресовано М. Б. — налицо ретроспекция, причем, в основном, отсылающая к периоду жизни поэта с 1962 по 1965 гг. Этот период включает и ссылку в Норенскую. Кроме метрико-ритмического маркера, относящего это стихотворение к «офелианскому» корпусу, Бродский инкорпорирует в него еще несколько знаков. Это, в частности, цветочно-травяная лексика. Во второй строфе мы встречаем слово «чистотел» («Луна в кусты чистотела / льет свое молоко…»). Человеческое тело повествователь рассматривает как сено («Иголку / больше не отыскать / в человеческом сене…»). Цветы возникают в связи с темой безумия в X строфе: «Жухлая незабудка / мозга кривит мой рот…». Образ незабудки, кроме того, что она относится к полевым цветам, еще и отсылает нас к реплике Офелии «Вот розмарин, это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните.» Кроме того, здесь имеет место тема старческого безумия («Эти строчки по сути / болтовня старика…», «Разговор о грядущем — / тот же старческий бред»). В этом виде образ выжившего из ума старика перекликается с образом героя стихотворения «Колокольчик звенит…», кстати, одним из первых текстов Бродского, в котором разрабатывается тема старения: «Я на год постарел / и в костюме шута…»55. Отсылки к Маяковскому в начале «Строф» не случайны.
оставившего печать на скатерти океана, которого не перекричать, светило ушло в другое полушарие, где оставляют в покое только рыбу в воде [II: 455]. Переклички Бродского с Маяковским были исследованы еще А. Ранчиным [Ранчин 2001: 384–404], который пишет о том, что эти переклички связаны с обращением поэта к традиции зауми. На наш взгляд, «маяковские» аллюзии выполняют у Бродского иную функцию. С их помощью поэт конструирует «безумный язык», отсылая к традициям литературного «безумства». Это подтверждается и тем, что в раннем творчестве для Маяковского разработка тематики безумия и юродства (в связи с созданием собственного поэтического языка) играла более важную роль, чем следование традиции футуристической зауми в духе В. Хлебникова. Первые строчки «Строф» отсылают нас к «офелианскому корпусу», а именно к мотиву утопленницы-Офелии из «Гамлета». В первой строфе повествователь говорит, что спокойное существование (т. е. не-существование в картине мира Бродского) в другом полушарии56 возможно только под водой. Сам герой по отношению к адресату находится если не под водой, то за водой (т. е. отделен от него океаном) — что в некотором смысле одно и то же, т. к. означает небытие героя. Повествователь говорит от лица уже умершего героя:
пререкаться, вникать в случившееся <…> [II: 455]. Кроме собственно шекспировского подтекста для этого стихотворения важен также пастернаковский слой. Восьмая строфа представляется нам отчетливой отсылкой к стихотворению «Гамлет» («На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси…» [Пастернак 1990: II, 56]), — ср. у Бродского:
меркнет. Выходишь прочь в рукоплесканье листьев в американскую ночь. Кстати, мотив аплодисментов растительности появляется еще в нескольких поздних стихотворениях у Бродского: в «Пятой годовщине» («Овацию листвы унять там вождь бессилен» [II: 421]), в стихотворении «V. Три рыцаря» из цикла «В Англии» («<…> аплодисменты боярышника ты не разделишь на три» [II: 438]). Таким образом, «Строфы» демонстрируют актуальность для Бродского театральной, в частности, шекспировской атрибутики и в позднем творчестве:
занавеса, антракта, как пылкая молодежь. В этом стихотворении еще одной значимой отсылкой к шекспировской традиции служит инфинитивная серия, связанная c рефлексией на тему смерти («<…> пререкаться, вникать / в случившееся…»). Инфинитивное письмо у Бродского, исследованное А. Жолковским, по мысли ученого, тесно связано с традицией гамлетизма, в центре которой — монолог «Быть или не быть…» [Жолковский 2000]. Интересно, что ранее такая инфинитивная серия уже встречалась в другом стихотворении периода ссылки, отмеченном Жолковским же — «В канаве гусь, как стереотруба…» [I: 447]. Остановимся на этом стихотворении подробнее. Текст, ориентированный на жанр идиллии, использует приемы нескольких комических поэтик, прежде всего бурлеска («В канаве гусь, как стереотруба, / и жаворонок в тучах, как орел…») и нонсенса («цветами яркими балкон заставь, / и поливать их молоком заставь…»). К традициям раешного стиха отсылает омонимическая рифма заставь — заставь. Омонимы и синонимы в тексте вообще играют важную роль. Обратим внимание на строчку «дверями друг от друга притворяться…». Здесь глагол имеет два значения: ‘закрываться’ и собственно ‘притворяться’. Эта неоднозначность передается и последним двум стихам: «священника встречать / в притворе»57. Мотив притворства несет особую нагрузку в контексте стихотворения, привнося в текст театральную атрибутику и заставляя соотносить лирических героев с центральными персонажами шекспировской трагедии — Гамлетом и Офелией. На «гамлетовский» подтекст отчетливо указывают как инфинитивное письмо, так и «безумный» дискурс повествователя. К «офелианскому корпусу» в стихотворении отсылают упоминания цветов (барвинок и «цветами яркими балкон заставь»). Важен здесь также мотив растворения, перекликающийся с мотивом утопленничества Офелии:
мне — растворяться в голосе твоем, тебе — в моей ладони растворяться… [I: 447]. Можно предположить, что идиллическая жизнь героев в этом стихотворении наделяется «загробными» коннотациями, в контексте чего образы дверей, чревовещания, молчания, наконец, финальное описание посещения церкви приобретают многозначность. В этом смысле знаменательным является образ стереотрубы в начале стихотворения: как показала Е. Петрушанская, образ трубы (равно как дуды и дудки) у Бродского всегда возникает в связи с темой гласа свыше, трубы Архангела, Апокалипсиса, вообще темы надвигающейся смерти58. Еще одно из поздних стихотворений Бродского, о котором следует сказать в связи с песнями Офелии, — стихотворение «То не Муза воды набирает в рот…» 1980 г. [III: 12], написанное через два года после «Строф». Оно адресовано М. Б. Снова налицо ретроспективность. Правда, скорее всего Бродский вспоминает здесь период своей жизни в Ленинграде непосредственно после ссылки. Образы воды, мотивы утопленничества здесь особенно важны («точно рыба — воздух, сырой губой / я хватал что было тогда тобой?», «но и в черном пруду из дурных коряг / я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг»»). Отдельно следует сказать о метрико-ритмической структуре этого стихотворения. В наших работах59 мы показывали, как путем сращения двух коротких дольниковых стихов рождается пяти- и шестииктный тактовики у Бродского. Данное стихотворение наглядно демонстрирует этот механизм и перед нами новые возможности для его объяснения. Здесь упоминается и дружок Офелии:
Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я: ничего внутри. Посмотри на него — и потом сотри [III: 12]. К растительной тематике Бродский возвращается в стихотворении «Ты — ветер, дружок. Я твой…», написанном около 1983 г. [III: 82]. Образы листьев, изъеденных гусеницей письма и ритмическая инерция стихотворения также заставляют соотнести этот текст с «Офелиевыми частушками». Отдельно заметим, что обращение «дружок» мелькает также в «Горбунове и Горчакове», где сама тема безумия связывает героев поэмы с образом Офелии60. Из поздних текстов следует отметить также стихотворение «Ritratto di donna» 1993 г. [III: 267–268]. Портрет дамы, который мы здесь видим — это постаревшая Офелия, увиденная глазами Гамлета. Она держит в руках увядшие цветы («Один гербарий»). Ее нога в чулке «блестит, как будто вплавь пересекла / Босфор и требует себе асфальта…». Складчатость, характеризующая ее лицо и одежду наводит на мысль о театральном занавесе. Автор посредством образа героини с камеей в низком декольте травестирует образ Офелии с полевыми цветами. Учитывая отождествление Бродским Стамбула с Ленинградом, можно предположить, что стихотворение — карикатура на М. Б. Оно представляет «нереализованное будущее» Офелии. Образ лица, кричащего «накрашенным закрытым ртом…», отсылает также к пятому акту «Гамлета», где герой трагедии рассуждает о черепе Йорика, а затем говорит: «Ну-ка, ступай в будуар великосветской женщины и скажи ей, какою она будет61, несмотря на румяна в дюйм толщиною. Попробуй рассмешить ее этим пророчеством» [Шекспир 1941: 145]. Итак, театральная атрибутика и шекспировские подтексты в стихах Бродского связаны со стратегией поведения поэта. Он пытался соотнести себя с актуальной литературной традицией, частью которой для поэта был культовый пастернаковский перевод «Гамлета». Эта установка обусловила выбор Бродским некоторых устойчивых масок (Гамлета, Офелии и т. п.), реализацию которых в его поэзии мы рассмотрели выше.
Глава 3 Современными исследователями активно изучается проблема влияния мировой литературы XX в. на поэзию Бродского62. Во многом это влияние было обусловлено определенной стратегией поэтического поведения в рамках амплуа «андеграундного поэта». Цитаты, аллюзии и реминисценции из зарубежной поэзии и прозы XX в. выполняли в поэзии Бродского функцию сигналов, указывающих читателю на принадлежность текста к определенной литературной парадигме. Однако, эту функцию могли выполнять явления не только на уровне интертекста, но и на уровне поэтики. Одной из важных черт мировой литературы XX в. является мифологизм63. Мифологизирующий текст как явление западноевропейской литературы прошлого века был рассмотрен в работах Е. Мелетинского64. Ученым был описан также процесс ремифологизации на материале текстов Д. Джойса, Т. Манна и Ф. Кафки. На рубеже 50-х — 60-х гг., на которые приходится «культурное взросление» Бродского, эти тексты, минуя запреты, только начинают проникать в массовое чтение. Стихотворение «Я как Улисс», в котором впервые отчетливо возникают образы античной мифологии, написано Бродским в 1961 г. Это свидетельствует об уже состоявшемся к этому времени знакомстве поэта с «Улиссом» Джойса. Несомненно, влияние Джойса на поэтику Бродского требует отдельного изучения, которое выходит за рамки нашего исследования. Нас интересует то, как Джойс повлиял на формирование мифологизма у Бродского. Вот как Мелетинский характеризует ремифологизацию у Джойса:
Способность повествователя соотносить (лирического) героя одновременно с разными, подчас противоречащими друг другу мифологическими образами характеризует и поэзию Бродского. Мелетинский выделяет такие признаки мифологического сознания, как «невыделенность человека из природы, черты диффузности мышления, неотделимость логической сферы от эмоциональной, <…> отождествление природных и культурных объектов, <…> неразличение предмета и знака, символа и модели, вещи и слова, чрезмерное сближение качества и количества, пространства и времени…» [Мелетинский 1998: 421]. С этой точки зрения сюжет многих стихотворений Бродского представляет собой историю ремифологизации, как сознание лирического героя изменяется от исторического к мифологическому. Кроме того, эта ремифологизация реализуется у поэта не только на уровне поэтики65 и сюжетостроения его текстов, но и на уровне автометаописания66. Образ поэта, возвращающегося в некоторое «мифологическое состояние»67 из поэтического приема превращается в сигнал, представляющий его стихотворения как часть «автобиографического текста». Исследованию сюжетов и образов античной мифологии у Бродского посвящено несколько работ68. Чаще всего их задачей становится поиск в античной мифологии «прототипов» лирического героя и «протосюжетов» текстов Бродского. Мы исследуем то, как, обращаясь к античной мифологии, поэт создает мифологизирующие тексты и какие устойчивые маски в связи с этим появляются у повествователя. Кроме того, мы рассмотрим, как в норенском корпусе и более поздних текстах эти маски наделяются функцией сигналов, указывающих читателю на автобиографичность текста, т. е., на то, что данное стихотворение является частью «автобиографического текста». В этой главе мы остановимся лишь на наиболее существенных для «автобиографического текста» отсылках к античной мифологии у Бродского. Миф об Ариадне и Тезее упоминается впервые в стихотворении 1961 г. «В темноте у окна»69. Образ Ариадны у Бродского смыкается с образом Парок (в греческом варианте — Мойр), точнее — мойры Клото, плетущей нить судьбы. Метафора сердца лирического героя в двустишии «Сзади прялкой в груди / Ариадна стучит…» [I: 155] отсылает не столько к образу спасительницы Тезея, сколько к мотиву нити Парки, заимствованному Бродским, как показал Ранчин [Ранчин 2001: 84–85], у Ахматовой. Образ Парки как таковой у Бродского появился только в 1968 г., в стихотворении «Памяти Т. Б.» [II: 75–84]. Что характерно: там этот образ тоже выступает в паре с мифологическим персонажем, но другим — Персефоной. Образ девы, полгода проводящей в Тартаре, полгода — на земле, нужен Бродскому для изображения героини стихотворения. В этом стихотворении Персефона, подобно Ариадне, тоже плетет нить. Парка же, наоборот, эту нить режет. Образ нити, ленты, с которого начинается стихотворение, служит его лейтмотивом. Стоит отметить, что эти образы идут в рамках сюжета об утонувшей девушке. В стихотворении «Осень…» 1970–1971 гг. [II: 260], где изображается осенний город, можно усмотреть отсылку к образу нити Парки — Ариадны. Нить, которую плетет осень — паутина дождя. Впоследствии этот образ вновь будет использован только после эмиграции — в стихотворении 1977 г. «Пятая годовщина», в котором Бродский дает подробный анализ своей литературной биографии до отъезда и о котором вообще следует говорить отдельно. В нем Бродский перечисляет все основные мифы, связанные с его представлением о собственной литературной биографии. В завуалированном виде параллель с Паркой возникает во втором стихотворении цикла «С февраля по апрель» (1969–1970 гг.) — «В пустом, закрытом на просушку парке…» [II: 255–256]. Мифологическое пространство здесь легко угадывается. Старуха, которая вяжет красный свитер в парке в этом контексте становится Паркой, в собаке, которая ее окружает, легко угадывается Цербер, за мальчишкой-лирником стоит орфически-аполлонический образ. Изображение заката (или того, как тянется старухина прядь из клубка) подтверждает это:
садится в деревянную корзину, распластывая тени по газону; и тени ликвидируют пожар [II: 256]. Попытаемся представить себе картину мира, изображенную в стихотворении «В пустом, закрытом на просушку парке…». Упорядоченный, аполлонический мир живых оказывается побежден царством мертвых, хаосом. Река в этом контексте получает черты Леты, в которую суждено погрузиться лирическому герою. Следующие строфы композиционно представляют именно «подводную» точку зрения: «Остатки льда, плывущие в канале, / для мелкой рыбы — те же облака». Тишина, характеризующая пространство в стихотворении (В проулке тихо, как в пустом пенале), как будто подчеркивает разрыв лирического героя с миром живых, несмотря на декларацию героя: «и счастлив ты, и, не смотря ни на / что, жив еще…». Единственным признаком жизни лирического героя является способность видеть:
лишь зренье тебе служит безвозмездно…[II: 256]. Осень в этих стихотворениях, несомненно соотносимых с жанром элегии, (прежде всего в духе Баратынского70), отсылает и к другим элегическим текстам в русской поэзии. Мы имеем в виду прежде всего стихотворение В. Ходасевича «Элегия» 1921 г. Для этих двух текстов («Элегии» Ходасевича и «В пустом, закрытом на просушку парке…» Бродского) характерны одинаковая экспозиция: одинокий лирический герой в старинном городском парке (в случае Ходасевича это Кронверкский сад); одинаковый сюжет — лирический герой расстается со своей душой в парке. В обоих случаях присутствует мотив арфы-лиры (Ходасевич: «Там все огромно и певуче… / И арфа в каждой есть руке…» [Ходасевич: 146]; у Бродского — иносказательно: «Мальчишка, превращающий в рулады / посредством палки кружево ограды…»). Объединяет стихотворения также мотив ветра (Ходасевич: «Деревья Кронверкского сада / Под ветром буйно шелестят»; Бродский: «и налетевший на деревья ветер, / терзая волосы, щадит мозги»). Отдельного исследования в связи с проблемой «христианской ремифологизации» в этом стихотворении требуют также образы колокола, святцев71. Образ подростка-Аполлона возникает у Бродского не однажды. Его связь с «комплексом Парок» станет более очевидной, если вспомнить, что в греческой мифологии Аполлон управлял судьбами людей и носил также имя Мойрагет, т. е., водитель Мойр [Лосев А. Ф. 1991a]. Связь образа ограды парка с образом аполлоновой лиры мы встретим и в упомянутом выше стихотворении «Осень…» 1970–1971 гг. Здесь, как и в стихотворении «В пустом, закрытом на просушку парке…» используется рифмопара ограда — рулада указывающая и на близость сюжетов этих текстов. В «Осени…» вместе со сменой музыкального инструмента меняются «мифологические приоритеты» лирического героя, на место Аполлона как воплощения упорядоченности приходит вакхоподобный Перун. Еще одна аполлонова лира возникает в «Желтой куртке» 1970 г. [II: 229]. Здесь образ «подростка в желтой куртке» проецируется на Аполлона, хотя автор и указывает на миф о Персее как на сюжетообразующий. Образ ограды, изображающей орущую пасть мадам Горгоны, — это та самая аполлонова лира (см. выше), которая приобретает амбивалентность (например, по признаку музыка — шум). В этом стихотворении повествователь последовательно сопоставляет образ подростка с образом Аполлона (автобус отсылает к образу аполлоновой колесницы, размазанное желтое пятно — к образу солнца как аполлоническому символу). Таким образом, все образы и мотивы в стихотворении приобретают многозначность. В зависимости от того, какими значениями читатель будет наделять эти образы и мотивы, будет меняться и сюжет стихотворения. С одной стороны, оно может быть прочитано как городская зарисовка, с другой — как мифологизирующий текст. Интересная подмена происходит в стихотворении «Я начинаю год и рвет огонь…» (ок. 1969 г.) [II: 185]. Третья и пятая строки указывают на то, что городской пейзаж в этом стихотворении должен восприниматься как подводный (остов ели на пустыре, как обглоданного окуня скелет, «и солнце в небесах плывет, как остров»). Упоминание плавающего острова несомненно указывает на обстоятельства рождения Аполлона на плавающем острове Делос. Затем и сам герой, двигаясь, рождает за собой море («и тень растет от плеч моих покатых, / как море, разевающее зев»). Наконец, в последней строфе у Аполлона откуда-то появляется Посейдонов трезубец («так причеши мой пенный след трезубцем!»), заставляющий вспомнить, что Посейдон был отцом Тезея. Интересен здесь также образ лирического героя-безумца, который выбирает выбирает буколический букварь, чтобы не быть посмешищем августа. Неоднозначность слова «август»72 тоже обращает на себя внимание. С одной стороны, за ним скрывается восьмой месяц года, с другой — римский император Октавиан, покровителем которого, как известно, был Аполлон [Лосев А. Ф. 1991]. В связи с этим фраза «я начинаю год», повторяющаяся в стихотворении дважды, приобретает многозначность. Лирический герой в этом стихотворении отождествляет себя с разными мифологическими персонажами (Аполлоном, Посейдоном, Тезеем). Одновременно герой вступает с ними в диалог. Подчас непонятно, когда повествователь прекращает говорить от лица одного персонажа и начинает говорить от лица другого. Вследствие этого текст приобретает полифоничность. С этим связано и появление формы второго лица в последней строфе, которая, с одной стороны, выглядит как обращение, а с другой — как внутренний диалог героя, «расщепляющегося» на собственно героя и на повествователя73. Обратим внимание, что композиция этого стихотворения напоминает построение текста, написанного еще в Норенской — «Колокольчик звенит…». Обратимся к норенским стихам. Стихотворение «Без фонаря» 1965 г. [I: 415] целиком построено на взаимозаменяемости пространственных и временных парадигм:
напуганное страшной тишиной пространства, что чернеет впереди не менее, чем сумрак за спиной. Сумрак за спиной здесь прочитывается не только как пространственный образ, но и как метафора прошедшей жизни, а чернеющее впереди пространство — не только как ночной пейзаж за окном, но и как будущее лирического героя. Факт существования героя должен подтвердиться временньiм действием — протягиванием нити сквозь зубы. Это действие символизирует собственно течение жизни от прошлого к будущему. В этом контексте образ нити выполняет функцию нити Парки. Таким образом из бытовой зарисовки текст превращается в рефлексию лирического героя над своей судьбой и одновременно приобретает черты автобиографичности74. В стихотворении «Из ваших глаз пустившись в дальний путь…» 1965 г. [I: 416] ощущается сильное влияние метафизической поэзии. Это влияние выражается в запутанной метафорике в духе Донна, основанной на сложных логических связях. Стихотворение написано в форме сонета. С одной стороны, лирический герой изображен в виде отпечатка на сетчатке глаза героини («Из ваших глаз пустившись в дальний путь…»), но сам герой увидеть ее не может. Вместо нее у героя в глазах образ «<…> Ариадны, вкравшейся в зрачок». С другой стороны — линия взгляда, символизируемая прядущейся нитью, постепенно сужается и обрывается из-за закругления земли. Процесс прядения сопоставляется с процессом зрения: лучи сходятся в фокусе зрачка, как пучок пряжи превращается в нить. Как и в предыдущем стихотворении образ нити становится метафорой, одновременно описывающей пространство в стихотворении и судьбу героя как временную категорию. Основной мифологический сюжет в этом стихотворении — это миф об Ариадне и Тезее. Образ Ариадны здесь тоже во многом сближается с образом Мойры-Парки (см. упоминание здесь хрустального станка), не зря в последней строфе упоминается судьба. Характерно, что обрыв нити — основной сюжет этого стихотворения. При этом, в соответствии с мифологическим сюжетом о Тезее и Ариадне, движение не сближает, а отдаляет героя от адресата стихотворения. Впоследствии эти мифологические фигуры снова возникают в стихотворении «По дороге на Скирос» (1967 г.) [II: 48]75. В этом стихотворении наиболее полно отражен миф об Ариадне и Тезее. Оно целиком строится на уподоблении и отождествлении пространственных и временных парадигм. В тексте доминирует мотив центробежного движения. Точка начала движения героя — город, сравниваемый с Лабиринтом, конечный пункт — мифологическое пространство Скироса. В шестой строке возникает мотив движения в связи с мотивом подвига (Апофеоз подвижничества!), который размывает границу между язычеством и христианством. Бог в одной строфе и божество — в другой. Героизм оборачивается аскезой. Стихотворение не только строится вокруг двух сюжетных линий — любовной и героической, но и вокруг двух религиозных философий — любви и героизма. Эти линии пересекаются в первом четверостишии. Во втором, где идет рефлексия над понятиями «подвиг — преступление», читателю предлагается псевдо-силлогизм: чудовища смертны; люди смертны ergo люди чудовищны. Таким образом, победитель уподобляется побежденному (добыче), он так же унижен, как и его жертва. В конце третьей строфы герой выпадает из поля зрения повествователя, — в тексте дается только вид города за спиной героя76. Город воспринимается как нечто чужое (Тезей был пленником Лабиринта). В последней строфе стихотворения описывается возвращение домой, где наблюдается также отсылка к мифу об Эдипе:
двуострого меча, поскольку город обычно начинается для тех, кто в нем живет, с центральных площадей и башен. А для странника — с окраин [II: 48–49]. Мифологический сюжет убийства Лаийя молодым Эдипом наслаивается здесь на историю поисков Тезеем своего отца Эгея. Во втором случае фабула инвертируется: отец, околдованный Медеей, не узнает сына и хочет его убить. Иными словами, здесь вместо уже привычной нам у Бродского мифологической пары Ариадна — Парка появляется новая: Тезей — Эдип. Фигура Ариадны на этом фоне становится не столь значима, из главной героини она превращается в (не)случайную встречную. Этот образ отходит на периферию: это уже не хрустальный станок, не метафора сердца лирического героя, а реальная женщина. Роль ее как спасительницы Тезея редуцируется, о ее влиянии на судьбу героя говорится уничижительно. Эта роль отводится в стихотворении Вакху. Для Диониса Бродский использует римское имя, тем самым не только акцентируя алкогольную тематику, но и указывая на его «иноземность» в контексте стихотворения. Для этого стихотворения исключительно важным становится также противостояние Тезея — как аполлонического героя — дионисийскому культу, в то время, как при упоминании божества повествователь демонстрирует синкретическое неразличение монотеизма (победа Тезея над Минотавром как апофеоз подвижничества) и дионисийства. Упоминающееся в тексте божество разрушает порядок, придает бытию непредсказуемость, превращая выигрыш в поражение, подстраивая встречи и отнимая любовь. Еще один важный для этого стихотворения момент — происхождение Тезея. Согласно мифу, Тезей был сыном Посейдона, поэтому когда речь идет о возвращении домой, автор понимает это как вовращение к отцу либо в земной ипостаси — возвращение в Афины к Эгею, либо в божественной (Ликомед сбросил Тезея со скалы в море, тем самым как бы возвратив героя отцу; характерно, что Эгей тоже утонул). Повествователь обсуждает именно первый вариант (недаром упоминается двуострый меч Тезея, по которому он и был узнан Эгеем). В том же 1967 г. в стихотворении «Прощайте, мадемуазель Вероника» имя Ариадны возникает в смоделированной повествователем ситуации, когда лирический герой остается без спутницы жизни («и в сем лабиринте без Ариадны <…> / я останусь один…» [II: 52]). Образ Ариадны, таким образом, окончательно закрепляется за вполне определенным персонажем любовной лирики и означает возлюбленную, которой больше нет. Интересно, что античные мотивы здесь играют второстепенную роль на фоне общего христианского контекста стихотворения (описываемые события относятся к Страстной пятнице 1967 г.). Адресат здесь наделяется атрибутами божества, соотносимого с христианской мифологией (новый вид христианства [II: 51]). В эмиграции миф о Тезее у Бродского снова актуализируется в стихотворении «1972 год» («Птица уже не влетает в форточку…») 1972 г. [II: 290–293] с посвящением В. Голышеву. Здесь рефлексия над эмиграцией представляет жизнь до отъезда как Лабиринт, заграница предстает как пустое пространство, отстутствие цивилизации и небытие, поглощающее прожитую жизнь:
не горизонт вижу я — знак минуса к прожитой жизни… [II: 293]. Здесь лирический герой находится в промежуточном состоянии (Ср. в стихотворении «Назо к смерти не готов…» [I: 396]). Старение как временнoе явление получает также свое пространственное выражение — это эмиграция Бродского. Смена возраста сопровождается сменой точки зрения на прожитую жизнь. В этом плане отождествление себя с Тезеем продуктивно для конструирования пространственно-временной метафоры прошлая жизнь как лабиринт. Лирический герой совершает движение в противоположную сторону от цивилизации, которая есть жизнь, но одновременно — несвобода, а также в какой-то степени вакуум (см.: «<…> выйдя на воздух…»), — к пустоте, природе, вещности, архаике, смерти и свободе. Заметим, что стихотворение было написано 18 декабря 1972 г., т. е. на момент написания стихотворения автору было 32 года, и приближалась его 33-я годовщина, с этим может быть связано и возникновение в стихотворении евангельских мотивов. Ариадна в этом тексте не упоминаются, хотя отсылки к этому образу все равно есть, они опосредованы стихотворением «По дороге на Скирос»:
к ножницам, в коих судьба материи скрыта. Только размер потери и делает смертного равным Богу [II: 293]. Многозначность слова «материя» вкупе с мотивом ножниц заставляют вспомнить Парок-Мойр, ткущих и разрезающих нить судьбы. Метафора «ножницам, в коих судьба материи / скрыта…» заставляет прочитывать образ ножниц как иконический знак: соединяясь, ножницы разъединяют материю77. Одновременно ножницы выступают как знак разлуки, подобно образу циркуля в английской метафизической поэзии78. Мотив уравнивания героя с божеством в связи с образом Ариадны мы встречали и в стихотворении «По дороге на Скирос»:
(тайком от глаз ликующей толпы) и нам велит молчать… [II: 48]; и далее:
и наше ощущенье униженья настолько абсолютно совпадают…[II: 48]. Мы склонны рассматривать стихотворения, в которых используется миф о Тезее как единый цикл. В этом плане последнее стихотворение цикла о сыне Посейдона как бы суммирует его образ, одновременно делая маргинальным образ Ариадны Мойры/Парки, который был столь значимым для ранних стихотворений Бродского. В образе Тезея есть сильный элемент автопародии. Одновременно этот образ и отсылки к нему становятся маской, указывающей на появление в тексте автобиографичности. К сожалению, за рамками данной работы остается изучение образа Одиссея в стихах Бродского. Трансформируясь и постепенно приобретая новое смысловое наполнение, этот образ возникает на протяжении всего творческого пути поэта. Этот образ может быть периферийным в тексте (см. о местоимении «никто» как одного из имен Одиссея, о чем писали Ранчин и Ковалева79) или становиться центральным (как в стихотворении года эмиграции «Одиссей Телемаку»), даже когда он завуалирован (например, образ капитана Немо в «Новом Жюль Верне» [Павлов: 28]). В любом случае введение этого образа становится сигналом «автобиографического текста». Однако в норенском корпусе этот образ практически не представлен. Он станет актуальным для более поздней версии «автобиографического текста» Бродского, — той, что создавалась в эмиграции.
Глава 4 I.4.1. Несколько амплуа Вернемся к стихотворению «1972 год» («Птица уже не влетает в форточку…»), анализом которого мы завершили предыдущую главу. При внимательном прочтении становится очевидным, что одним из наиболее важных его претекстов является пастернаковское стихотворение «Гамлет». Во многом этот текст Бродского строится как сознательная полемика с автором «Стихов из романа»80. Основные мотивы, наличествующие в пастернаковском стихотворении, Бродским либо травестируются, либо оспариваются. На отождествление лирического героя «Гамлета» с Христом, проходящее через все стихотворение, герой «1972 года» возражает: «Но не ищу себе перекладины: / совестно браться за труд Господень». Вместо сумрака ночи, направленного на пастернаковского героя тысячью биноклей на оси, у Бродского «<…> черный прожектор в полдень / мне заливает глазные впадины». Если герой Пастернака выходит на подмостки, прислонясь к дверному косяку, то в стихотворении «1972 год» «Но уже те самые, / кто тебя вынесет, входят в двери». Сама театральная тематика травестируется: если у Пастернака речь идет о начале действия, о выходе героя, то в тексте Бродского повествуется скорее о финале драмы: «Что бы такое сказать под занавес?» Неотвратимость чаши для героя «Гамлета» обращается обделенностью героя «1972 года»: «чаши лишившись в пиру Отечества, / нынче стою в незнакомой местности». Цитирование русской пословицы в финале стихотворения Пастернака («Жизнь прожить — не поле перейти») у Бродского превращается в былинный клич «…дайте выйти во чисто поле!» Сам мотив слабости героя перед лицом неотвратимой судьбы, отсылающий к евангельскому сюжету («Если только можно, авва отче, / Чашу эту мимо пронеси») у Бродского девальвируется в мотив трусости, который задает эмоциональный тон всем речению: «Боязно! то-то и есть, что боязно…» в пятой строфе, «Впрочем, дело, должно быть, в трусости. / В страхе» — в восьмой (кстати, эти строки идут сразу вслед за репликой о невозможности повторения героем крестного пути), «Чувство ужаса / вещи не свойственно» — в четырнадцатой. Такая трансформация мотива указывает на иной — общий для Пастернака и Бродского претекст — на собственно шекспировского «Гамлета», точнее — на монолог «Быть иль не быть»: «Так всех нас в трусов превращает мысль…» [Шекспир 1953: 263]. Отсылки к Шекспиру вообще являются важной составляющей стихотворения81, что, как мы показали в I.2., характерно для поэзии Бродского в целом. Центральной для «1972 года» является тема старения. В связи с ней возникают еще несколько мотивов, которые необходимо упомянуть: это мотивы бессилия/усталости, успеха, изгнания, смерти/небытия, боли/мучения, равенства с Богом/богооставленности. На уровне «автобиографического текста» введение этих мотивов становится сигналом того, что автор задним числом приписывает себе определенные амплуа. В этой главе мы рассмотрим, какое влияние Пастернак оказал на формирование поэтической стратегии Бродского, в частности, в период северной ссылки. Нашей целью мы полагаем сопоставление поэтических амплуа Пастернака 1930–1932 гг. и Бродского в ссылке, а также рассмотрение того, как эти амплуа, превращаясь в автобиографические сигналы, формируют затем «автобиографический текст». Сразу следует оговориться, что мы не рассматриваем модель поведения Бродского как безусловно сознательную автопроекцию пастернаковской модели. Несмотря на то, что первое собрание стихов с биографией Пастернака вышло в СССР только в 1965 г., Бродский, несомненно, был хорошо с ней знаком. I.4.2. Следы пастернаковского влияния Влияние Пастернака на раннего Бродского сейчас не подвергается сомнению82. Товарищи по поэтическому цеху характеризовали его раннюю поэзию так: «Он воспитывался на поэзии, которая была гибридом Пастернака и Лебедева-Кумача, и выковырять одно из другого невозможно: они проникали друг в друга, как молекулы, а не перемешивались, как семечки» [Найман 1990: 196]83. При этом сам Бродский, не отрицая факта знакомства с пастернаковскими стихами, отказывал им в существенном влиянии на свое раннее творчество. Интересно, что, по свидетельству самого Бродского, перелом в восприятии им Пастернака приходится именно на изучаемый нами период:
Несмотря на это, переклички с пастернаковскими стихами у Бродского наблюдаются уже в самых ранних стихотворениях. Это, например, стихотворение «Петухи» 1958 г. [I: 22–23], отсылающее к одноименному пастернаковскому тексту 1923 г. Обращает на себя внимание сходство сюжетов: у Пастернака петухи пророчат общее изменение жизни
Поочередно окликая тьму, Они пророчить станут перемену Дождю, земле, любви — всему, всему [Пастернак 1990: I, 213]. У Бродского крик петухов сопровождает рождение жизни:
за годами, за веками я вижу материю времени, открытую петухами [I: 23]. В обоих случаях важны мотив сравнения с прошлым и мотив почвы: у Пастернака земля дымится, словно щей горшок, у Бродского «петухи зарывались / в навозные кучи». Пастернак оказал сильное воздействие и на позднюю поэзию Бродского. В качестве примера следует привести стихотворение «Полонез: вариация» 1981 г. [III: 65–66], в котором прослеживается развитие тематики первого текста в сборнике Пастернака «Когда разгуляется» — «Во всем мне хочется дойти…». Главная идея стихотворения — былые страсти превращаются в факты искусства — пародируется Бродским. Пастернак пишет:
Живое чудо Фольварков, парков, рощ, могил В свои этюды [Пастернак 1990: II, 88]. Бродский переосмысляет образ, говоря про «в пианино ушедшего Фредерика…». О линеарности построения пейзажа в стихотворении Пастернака пишет М. Ямпольский [Ямпольский: 222]. Интересно, что Бродский выстраивает цепочки образов, подобные пастренаковским, от черепицы фольварков (вспомним шопеновские фольварки в «Во всем мне хочется дойти…») до распаханных туч. Однако Бродский травестирует пастернаковские образы, подчеркивает их ветхость и придает им мрачный колорит. Пастернаковский сенокос оборачивается у Бродского стогами, завалившиеся в Буг; летней грозы раскаты — в свинцовый плуг84 в распаханных тучах. Даже натянутый лук превращается у Бродского в уже взорвавшуюся нейтронную бомбу. Если Пастернак стремится обратить время вспять («Во всем мне хочется дойти <…> / До сущности прошедших дней…» [Пастернак 1990: II, 87]), то Бродский фиксирует жизнь и героиню в предсмертном состоянии, потому что
лучше привыкнуть уже сегодня [III: 66]. Следы знакомства Бродского со «Вторым рождением» мы находим уже в стихах 1962 г. В стихотворении «Письмо к А. Д.» («Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова…») [I: 160–161] строчки
Добрый путь, добрый путь, о, как ты далека, Боже правый! [I: 160]. по всей видимости отсылают нас к стихотворению Пастернака «Не волнуйся, не плачь, не труди…» 1931 г., а именно — к последнему четверостишию:
Наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, Ты посмотришь на все по-другому [Пастернак 1990: I, 355]. Мы уже отмечали в наших работах85, что это стихотворение выявляет генезис «длинного стиха» у Бродского. Текст представляет собой переходную метрическую форму: на 30 строк пятистопного анапеста приходятся 10 строк, написанных другим размером (четырехстопный анапест — 2 строки, шестистопный анапест — 4, пятииктный тактовик — 4). При этом тактовик образуется в результате удлиннения междуиктового интервала на второй стопе — на месте ожидаемой цезуры. Таким образом, стих словно составляется из двух полустиший, не утерявших сильную ритмическую самостоятельность. Характерно, что в пастернаковском стихотворении в четырех четверостишиях из шести на каждые две строки текста приходится по одному предложению. Скорее всего, в данном случае Бродский берет в качестве ритмической единицы пастернаковскую синтагму, которая в среднем длиннее стиха и растягивает, в соответствии с новым ритмическим рисунком, свою стихотворную строку. В обоих стихотворениях описывается ситуация расставания лирического героя с адресатом. Однако имеются здесь и существенные отличия. Герою Пастернака расставание еще предстоит, у Бродского расставание уже произошло. Герой первого осознает возможность будущей коммуникации только на расстоянии, Бродский утверждает обратное: чтобы общение состоялось, необходимо возвращение героини, но это невозможно. Если у Пастернака героиня на чужбине должна обрести жизнь («Как росток на свету распрямлясь…»), то у Бродского она как будто мертва. Обращает на себя внимание мотив молчания у Бродского, и выбранная в связи с этим для стихотворения форма письма. Героиня все равно не услышит ни слова, тем не менее герой все равно ей пишет. Похожий сюжет расставания уже был ранее реализован Пастернаком в стихотворении «Не волнуйся, не плачь, не труди…». Здесь мотив письма возникает в виде переписки с горизонтом. У Пастернака изменения, которые должны произойти с героиней, связаны с тем, что она должна поменять язык общения («Заведи разговор по-альпийски…»). У Бродского героиня именно на чужбине обретает дар речи: молчаливая юность остается на родине, а в новой стране она говорит в микрофон. Однако при этом она теряет способность слышать лирического героя. Оба стихотворения объединяет также мотив полета, во время которого героиня смотрит на землю сверху. Для норенского корпуса характерна ориентация на пастернаковские текстов. Остановимся на стихотворении «Развивая Крылова», одном из первых произведений Бродского, написанных в ссылке. При внимательном прочтении в нем обнаруживаются переклички с известным пастернаковским стихотворением «Объяснение» 1947 г. Они проявляются уже при сопоставлении сюжетов стихотворений: в пастернаковском тексте герой заявляет о разрыве с женщиной, в тексте Бродского это же событие описывается метафорически. Сам мотив разрыва86, приобретающий двусмысленность в контексте сравнения персонажей с проводами («Мы провода под током…» [Пастернак 1990: II, 62]), у Бродского трансформируется в столь же двусмысленный мотив изоляции87. Сам момент прекращения взаимоотношений в обоих текстах обозначается вполне конкретным жестом. У Пастернака: «Сними ладонь с моей груди…», у Бродского: «он высвободил руку…». Однако композиция и некоторые структурообразующие мотивы и образы стихотворения «Развивая Крылова» отсылают нас к другому тексту Пастернака — к «Вечерело. Повсюду ретиво…» из сборника «Второе рождение». Экспозиции обоих стихотворений схожи: герои вышли на природу и наблюдают за ней. Упоминание фарфорового шарика изоляции на телеграфном столбе, где сидела ворона («Развивая Крылова»), отсылает нас к фарфоровым гнездам телеграфа в пастернаковском тексте. Из пастернаковского стихотворения «Любимая — молвы слащавой» 1931 г. Бродский заимствует мотив рифмы, связывающей героя и его возлюбленную в «Сонете» 1964 г. («Ты, Муза, недоверчива к любви…») [I: 384]; из «Весенней распутицы» 1947 г. («Стихи из романа») — сюжет, размер и некоторые образы для стихотворения «В распутицу» 1964 г. [II: 333–334]. Примеры можно продолжать. Мы показали наиболее важные случаи обращения раннего Бродского к поэзии Пастернака. Тема взаимосвязи двух этих поэтов (и двух поэтик) требует отдельного изучения, не входящего сейчас в нашу задачу. Обратимся теперь к собственно интересующей нас проблеме: как на уровне поэтики у обоих авторов реализуется определенная поведенческая стратегия, и как общность поведенческих установок обусловливает общность на уровне сюжетного и мотивного строения текстов. I.4.3. «Вакансия поэта» — ««низвергнут!», «вознесен!»» В 1930–1932 гг. Пастернаком декларируется стремление к упрощению своего поэтического письма. Время написания «Второго рождения» — довольно сложный отрезок в жизни поэта. В апреле 1930 г. покончил с собой В. Маяковский. Его смерть открывает вакансию поэта, которую Пастернак в стихотворении «Борису Пильняку» характеризует как опасную [Пастернак 1990: I, 202]. В этих обстоятельствах Пастернака начинают рассматривать как наиболее подходящую кандидатуру на «должность» первого поэта, но одновременно появляются и первые признаки его отторжения официальной советской культурой. Первые намеки на антисоветскость поэта появляются именно тогда в РАППовской критике; с расформированием ассоциации они не прекращаются, то затухают, то возобновляются с новой силой, принимая порой форму откровенной травли88. Иначе говоря, в ситуации 30-х годов Пастернак ощущал себя и первым, и опальным поэтом одновременно89. Это противоречие заставило поэта пересмотреть свой статус в литературной системе, что повлекло за собой также изменение его отношения к собственному поэтическому слову. По свидетельству биографа, сложно в это время складывается и личная жизнь поэта. В 1930 г. у Пастернака назревает разрыв с женой. В результате к 1931 г. в его личной жизни складывается ситуация, соотносимая с противоречиями в его творческой деятельности: хотя поэт имеет de facto две семьи, ему из-за этого часто приходится оставаться в одиночестве. Итогом семейных и литературных неурядиц становится неудавшаяся попытка самоубийства, которую в то же время можно трактовать как удавшуюся попытку «второго рождения» поэта. Рубеж 1931–1932 гг. становится разделительной чертой не только между двумя его браками, но и между двумя стратегиями поведения Пастернака как поэта. Здесь нужно отметить чуткость, с которой Пастернак относился к проблеме построения собственной поэтической стратегии, несовместимой с парадигмой современной ему культуры. Как известно, убеждение в собственной неординарности (часто — гениальности) было своеобразным «родовым признаком» поэтов начала XX в. (вспомним поэтические декларации Маяковского или Северянина). Однако Пастернак поднял новую проблему: он придал тексту статус поступка, за который автор несет ответственность. Еще в 1923-м году Пастернак заметил:
Подчеркивая инфантилизм своего окружения, Пастернак непроизвольно вплотную подходит к мысли об ответственности не только за свои тексты, но и за литературный процесс в целом, а следовательно — и к мысли о своей руководящей роли в этом процессе. К моменту «второго рождения» это представление о высокой общественной значимости собственного поэтического поведения как первого поэта оформилось окончательно90. Еще одной иллюстрацией этому могут служить следующие строки из «Второго рождения»:
Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью — убивают, Нахлынут горлом и убьют! [Пастернак 1990: I, 366]. В этой связи для нас важен еще один момент: поведенческая установка на роль «администратора» литературного процесса не была субъективной моделью Пастернака. Она поддерживалась и другими литераторами, окружавшими поэта в это время91. Не случаен в связи с этим и сильный автобиографизм, характерный для прозы Пастернака. Д. Бетеа справедливо отмечает, что для Пастернака отдельные его тексты не были самоценными. Они рассматривались им как разные реализации инвариантной «книги жизни», способной адекватно описать то, что мы называем «автобиографическим текстом»92 [Бетеа: 379]. Это стремление поэта претворить в текст всю свою жизнь наглядно демонстрируют первые строки из стихотворения «Волны», открывающего сборник «Второе рождение»: «Здесь будет все: пережитое, / и то, чем я еще живу…» [Пастернак 1990: I, 340]. При всей сложности изучения поведенческих моделей Бродского (закрытость переписки поэта, обрывочность информации о биографических обстоятельствах), можно с большой долей уверенности говорить о схожести ситуации, в которой оказался поэт к моменту процесса 1964 г., с ситуацией Пасернака в 1930–1932 гг. С одной стороны, он опальный поэт. Он осужден на ссылку, официальная культура его отторгает. С другой — он одновременно получает новый статус — признанного поэта, т. е. признанного и опального поэта одновременно. Причем признание Бродского неофициальной культурой во многом подкреплялось и своеобразным признанием со стороны официальной власти93. Это противоречие, подобно пастернаковским дилеммам, рассмотренным выше, дает нам право на сближение этих двух поведенческих моделей. Причем, как нам кажется, в этом смысле гораздо более оправданное, нежели ставшее уже традиционным соотнесение двух «изгнанников» — Бродского и Мандельштама, хотя бы потому, что ссылка Мандельштама, к сожалению, не означала повышения его литературного статуса и не сопровождалась им. Именно в ссылке к Бродскому приходит осознание того, что поэзия — не игра, не досужее развлечение и что она влечет за собой ответственность (в том числе и административную). Так, в стихотворении 1965 г. «Как славно вечером в избе…» [I: 429] мы встречаем строки:
листки в случайную тетрадь и знать, что некому соврать: «низвергнут!», «вознесен!» [I: 429]. Здесь отчетливо выразилась рефлексия Бродского над проблемой своего литературного статуса. Заметим, что здесь поэт прибегает к автоцитации: ранее в стихотворении «Я памятник воздвиг себе иной…» 1962 г. [Бродский 1992: 18] он уже писал о том, что на высоту памятника его усталость вознесла, и он равнодушен к тому, что его, возможно, низвергнут и снесут, а также в самоуправстве обвинят. При этом в стихотворении 1965 г. Бродский выбирает «третью позицию»: он сознательно отдаляется от жизнетворческих игр, связанных с обозначением своего литературного статуса. Ссылка оказывается удобным способом самоустранения поэта, способом показать, что он «вне игры», а потому его поэзия — «настоящая». Таким образом, общей для Бродского и Пастернака будет последовательная смена стратегий поэтического поведения. Эту последовательность можно представить в виде сменяющих друг друга амплуа, которых оба поэта более или менее сознательно придерживались. Причинно-следственные связи между этими амплуа можно изобразить в виде следующей схемы: I.4.4. «Честность» Рассмотрим теперь выделенные нами амплуа по отдельности. Представление о том, что поэзия — не игра, влечет за собой для Бродского несколько важных выводов. Один из них заключается в обретении поэтом убеждения в том, что поэт должен быть честен. «Честность» мы рассматриваем как родовое понятие, которое включает в себя видовые понятия «искренность», «откровенность» и т. п. В ранних стихах поэта очень волнует проблема искренности творчества. В стихотворении «Сад» 1960 г. повествователь просит:
Даруй моим словам стволов круженье, истины круженье…[I: 45]. Тема искренности лирического героя возникает также в стихотворениях 1961 г.: в «Петербургском романе» («На всем, на всем лежит поспешность / <…> На полуискренних стихах. / Увы, на искренних…») [I: 71], в стихотворении «Люби проездом родину друзей…» («Приходит моментальное забвенье / десятилетья искренних трудов, / но вечного, увы, неоткровенья») [I: 86]. Характерно, что неоткровенность Бродский в эту пору связывает с молодостью: «Несвоевременной печати / неоткровенных наших лет» («Петербургский роман»). Она также связана с жизнью родного города, как в стихотворении «Воротишься на родину. Ну что ж…»: «Как хорошо, на родину спеша, / поймать себя в словах неоткровенных…» [I: 87]. Тема честности становится очень актуальна для «Шествия». Сам жанр поэмы-мистерии, выбранный Бродским, неслучаен. Он как будто пытается разобраться в своей неискренности, понять, чьи роли он играет. Отсюда и построение поэмы: монологи действующих лиц перемежаются многословными авторскими комментариями. Таким образом честность и неискренность становятся одной из основных тем поэмы-мистерии. Не случайно одним из главных персонажей является Честняга, который высказывает прописные истины и является своеобразной суммой образов «положительных» персонажей поэмы. Характерно, что реплики некоторых персонажей в поэме настойчиво «деверифицируются» другими персонажами или повествователем. Коломбина опровергает Арлекина. Поэт говорит о себе как о вечном мальчике, а в Комментарии повествователь отмечает:
он говорит неправду, он устал от улочек ночных, их адресов… [I: 102]. Отдельного внимания в этом смысле заслуживает баллада Лжеца. Бродский подчеркивает неискренность повествователя с помощью стилистических средств. Используя разорванные строки, он указывает на модернистскую эстетику и подчеркивает игровой момент в изложении. Вводя в балладу мистические и урбанистические мотивы, Бродский отсылает нас к эстетике символизма. Это подтверждается и скрытыми реминисценциями в балладе:
любовников ногами окружала и шарила белесыми руками и взмахивала тонкими кругами… [I: 429]. Это четверостишие отсылает к брюсовскому «Творчеству»94:
На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. [Брюсов: 70]. Таким образом, модернистская эстетика для Бродского обладает признаками инфантильности, игры, и, как следствие — нечестности. Интересно, что эта стилистическая маркированность подчеркивается в последующем «Комментарии»: «Да, о Лжеце. Там современный слог / И легкий крик…» [I: 109]. Мотив неискренности в поэме связывается с искусственностью и наигранностью слога:
прикидывался, умничал, острил и добавлял искусственно огня… Но кто-то пишет далее меня [I: 141–142]. Последняя строчка приведенного отрывка сообщает нам очень важную деталь: все попытки поэта проявить индивидуальность привносят в стихи неискренность. В комментариях повествователь словно стремится по возможности избавить изложение от этой наигранности и деланности, отсюда в них как бы случайная строфика, монотонный ямб, порой путающееся изложение, на фоне которого романсы выглядят кунстштюками. Это первое приближение Бродского к реализации идеи поэта, отдающегося во власть языка, которая отчетливо будет сформулирована лишь в Нобелевской лекции. Характерно, что в последней строке процитированного отрывка возникает образ внеположного повествователя, который отделяется от лирического героя. Во многом здесь давали себя знать традиции советской поэзии, на которых воспитывался Бродский до знакомства с более широким поэтическим контекстом. Соцреалистический канон95 находил в любом проявлении усложненных форм поэтики, свойственных прежде всего модернизму, неискренность автора. В связи с этим интерес для нас представляют наблюдения А. Жолковского об эволюции писателей эпохи модернизма в советское время. Он пишет о тенденции к упрощению стиля, свойственной этим писателям, начиная с 30-х гг.:
Характерно, что, по справедливому замечанию того же Жолковского, такое «опрощение» парадоксальным образом не приводило Пастернака к искренности:
Пастернаковский «миметизм», почти в духе классицизма нацеленный на достижение некоторой «объективности» поэтического слова (по Жолковскому), вместо того приводит поэта к романтическому субъективизму. Тем не менее, за размышлениями Бродского об искренности в поэзии стоит если не пастернаковский по происхождению, то пастернаковского толка «миметизм». Честность означает отказ от своей индивидуальности. Отказ же этот влечет за собой установку на «простоту». Не случайно в поэме «Гость» 1961 г. появляются следующие строки:
что проще и значительней пейзажа не скажет время сердцу моему.
Но до сих пор обильностью врагов То, как реализуется это «опрощение» у Бродского в пейзажной лирике на уровне поэтики, мы рассмотрим в главе II.2. Здесь же отметим, что еще до ссылки во всех стихотворениях, затрагивающих, например, тему геологических экспедиций, так или иначе возникают мотивы искренности жизни вне города и, соответственно, неискренней городской жизни (вспомним, хотя бы стихотворение «Воротишься на родину…», написанное после возвращения поэта из Якутии, в котором это различие прописано наиболее отчетливо). Таким образом противопоставление искренности игре у Бродского скоро трансформируется в оппозицию объективное " субъективное. Парадоксальным образом для него личное (субъективное) становится противопоставленным всеобщему (объективному). Именно всеобщему присваивается статус истинного, в отличие от субъективного, которое часто оказывается ошибочным. Все это типологически сходно с пастернаковским «братанием со всем миром», описанным Жолковским в качестве доминантной поведенческой стратегии поэта, начиная с 30-х гг. Посмотрим, как эта установка на «честность» реализуется у Бродского в «норенских» текстах. Cтихотворение 1965 г. «Как славно вечером в избе» [I: 429], на первый взгляд, посвящено традиционной для русской поэзии проблеме противостояния поэта и толпы. Реальность здесь делится на два мира: один — внешний, открытый (сволочной), другой — ближний, закрытый (в избе). Причем этому закрытому миру будет свойственна тотальная изоморфность на всех уровнях. Печной позвоночник, в котором разбушевалась мысль — это несомненно аллюзия на растекашеся мышью по древу. Эта аллюзия вскрывает механизм повторяемости замкнутых пространств: герметичное пространство избы повторяется на уровне внутреннего мира замкнутого человека. Этот механизм имеет своеобразную метонимическую природу, и он проявляется во многих текстах, в первую очередь — в «Большой элегии Джону Донну», а также, например, в стихотворении «В горчичном лесу» 1963 г. (Подробнее см. об этом в в II.1. и в II.3.) Мышь при таком прочтении будет центральной метафорой стихотворения. На протяжении текста распределение ролей в нем меняется. В начале текста повествователь и лирический герой — одно лицо. Он (или его мысль) запутывается в своей судьбе, как мышь запутывается в дымоходе. Следующий этап — остранение: герой абстрагируется от своей мыслительной деятельности (и притворясь, что спишь), пытается найти стороннюю позицию по отношению к собственному внутреннему диалогу:
листки в случайную тетрадь и знать, что некому соврать: «низвергнут!», «вознесен!». Столпотворению причин и содержательных мужчин предпочитая треск лучин и мышеловки сон. С этой точки зрения строки «и знать, что некому соврать: / «низвергнут!», «вознесен!»…» передают внутренний диалог лирического героя, от которого повествователь отделен. Не случайно в конце второй строфы возникает мышеловки сон. Повествователь, таким образом, абстрагируется от неправоты/неискренности лирического героя. В этом смысле «толпа» и «поэт» оказываются фикциями, симулякрами, необходимыми для создания внутреннего диалога. Не случайно, являясь продуктом психической деятельности героя, и причины, и содержательные мужчины ставятся в один ряд. Им предпочитается сон мышеловки — словосочетание, близкое к оксюморону, означающее мнимый сон, бдительность, прикрывающуюся личиной сна (вспомним: и притворясь, что спишь). Мышеловка должна поймать мышь, подобно тому, как повествователь, прикидываясь равнодушным, ловит лирического героя на неискренности. В третьей строфе впервые появляется местоимение первого лица (мне) и меняется модальность высказывания. Строфа является резюмирующей. Повествователю «быстрей закутаться в кашне, / чем сердце обнажить». Парадоксальным образом получается, что обнажение сердца (под которым понимается напряженный внутренний диалог лирического героя) ведет к неискренности, и только позиция стороннего наблюдателя позволяет повествователю объективно взглянуть на внутренний мир лирического героя. I.4.5. «Мудрец — ребенок» Еще один момент, который необходимо подчеркнуть в связи с проблемой честности и простоты у Пастернака и Бродского, связан с проблемой инфантильности. Как мы уже говорили, начиная с 30-х гг. Пастернак занимает позицию взрослого по отношению ко всем остальным участникам актуального литературного процесса. По мысли М. Берга, преодоление инфантильности было характерно для литературных установок позднего соцреализма:
Самого Берга такое объяснение не устраивает и он предлагает собственную интерпретацию:
«Второе рождение» — первая книга Пастернака, в которой тема старения приобретает для поэта актуальность. Прежде всего мы имеем в виду стихотворение «О знал бы я, что так бывает…». Кроме театральной атрибутики в этом тексте важна еще одна деталь. Когда Пастернак поднимает тему старости («Но старость — это Рим, который…» [Пастернак 1990: I, 367]), он еще не является старым в общепринятом смысле. Стихотворение написано в начале февраля 1932 г., т. е. написание его скорее всего совпадает с сорок вторым днем рождения поэта (29 января по ст. ст.). Напомним, что третьего февраля Пастернак совершает попытку самоубийства [Пастернак Е.: 475–476]. Отсюда в стихотворении строчки насчет полной гибели всерьез. Старость в стихотворении представляется читателю не столько как пора жизни конкретного человека, сколько как некоторый литературный возраст. Заметим, что вместо слова «молодость» в начале стихотворения употребляется слово «дебют», которое заставляет прочитывать и «старость» в определенном смысле. Характерно, что основная коллизия стихотворения заключается в следующем: то, что было игрой в молодости, в старости превращается в жестокое испытание. Парадоксально, но о «полной гибели всерьез» [Пастернак 1990: I, 367] повествователь говорит в контексте древнеримских боев гладиаторов, которые были хоть и игрой, но все-таки насмерть. Таким образом, несмотря на изначальную установку поэта на честность и простоту («И тут кончается искусство, / И дышат почва и судьба»), лирическому герою не удается выйти за рамки игрового пространства, что только подчеркивает трагизм стихотворения. Почва и судьба оказываются включенными в границы искусства, которое, по версии повествователя, кончается. Несмотря на то, что тема старости, старения у Бродского появилась только в Норенской, в «Чаше со змейкой», есть несколько функционально с ней сопоставимых мотивов, возникающих еще до ссылки. 1. Мотив усталости. Она имеет романтическое (байроническое) происхождение. Большинству «честных» персонажей в «Шествии» свойственна «усталость» (Арлекин, Поэт, Усталый Человек). Этот признак подчеркивает «возраст души», следствием которого является мудрость, пусть и в молодом теле. В связи с темой усталости следует также вспомнить строку «меня сюда усталость вознесла» из стихотворения «Я памятник воздвиг себе иной…» 1962 г. [Бродский 1992: 18]. Характерно, что эта тема сочетается с темой безумия: «Рассудок мой теперь как решето, / а не богами налитый сосуд…». Стремление к позиции старого, мудрого поэта объясняет, почему Бродский еще будучи молодым человеком поднимает в своих стихотворениях тему старения (уже в Норенской, в стихотворении «Чаша со змейкой», написанном осенью 1964 г.). Здесь возникает тема «возраста души», которая может не совпадать с «возрастом тела». Тем самым готовится появление темы старения у 25-летнего Бродского. В стихотворении 1962 г. «Уже три месяца подряд…» возвращение лирического героя из Москвы в Петроград трактуется как акт старения: «— Прошла ли молодость твоя. / Прошла, прошла…» [I: 162]. В стихотворении «Ни тоски, ни любви, ни печали…» «старость души» лирического героя («будто целая жизнь за плечами…» [I: 185]) подчеркивается введением образа молодого постового, который является своеобразным фоном для развития действия стихотворения. 2. К 1964 г. для Бродского становится актуален еще один мотив — сумасшествия/безумия. В биографическом контексте он актуализируется в связи с тем, что в начале 1964 г. Бродский некоторое время провел в психиатрической больнице им. Кащенко, куда, по одной из версий, его поместили знакомые, чтобы скрыть от преследовани96. Одновременно мотивы безумия связываются с шекспировскими подтекстами поэзии Бродского, которые мы рассматривали в главе I.2. Причем, амплуа безумца, совмещающее гамлетовские и офелианские мотивы с темой старости/мудрости в пастернаковском контексте, оборачивается новым амплуа — юродивого/шута97. В итоге инфантилизм лирического героя в сочетании с тематикой старости приводят к тому, что он начинает играть роль юродивого. Атрибутика безумия/юродства наблюдается во многих стихотворениях норенского корпуса: от «С грустью и нежностью» до «Номинально пустынник…». Отсюда «безумство», которое характеризует повествователя во многих стихотворениях, начиная, пожалуй, еще с 1963 г. (см., напр., в II.1. разбор стихотворения «В горчичном лесу»). В связи с этим особую важность приобретает мотив неясного голоса, который противостоит неясной мысли и в то же время является подтверждением пресловутой простоты в пастернаковском понимании. I.4.6. «Простота» Таким образом, эту установку на честность повествователя у Бродского мы рассматриваем в контексте пастернаковского «опрощения». В этом плане для нас интересен итоговый текст «Второго рождения» — «Волны». Это стихотворение было написано во время путешествия по Грузии в 1931 г. Пастернак посвятил его Н. И. Бухарину, хотя это был не самый подходящий момент для такого жеста. «Волны» стали декларацией приятия Пастернаком социализма. Стихотворение написано в жанре, который получил впоследствии большое распространение у Бродского — в жанре «большого стихотворения»98. Этот текст подробно разбирает биограф Пастернака [Пастернак Е.: 471–475]. Особое внимание исследователь уделяет следующему фрагменту «Волн»:
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем, В качестве комментария к этому месту у Пастернака биограф указывает на рассуждения Скрябина о музыкальной композиции в «Охранной грамоте», которая, кстати, писалась в этот же период, и отражала размышления Пастернака:
Из приведенного отрывка хорошо видно, как оппозиция простота — сложность увязывается с проблемой построения модели поведения. Говоря о явлении простоты, Пастернак несомненно имеет в виду явление творящего индивида, несущего в своих произведениях эту простоту. Таким образом, эта фраза наглядно показывает механизм перенесения явлений с уровня поэтики текста на уровень поэтики поведения. Это представление о явлении творца, для произведений которого характерна такая неслыханная содержательность, простота, позднее станет основой для формирования пастернаковского мессианства, выразившегося в «Докторе Живаго»99 и в поздней лирике (начиная с книги «На ранних поездах»). Важное место у Пастернака занимает тема поэтического бессмертия и связанный с ней мотив посмертной славы. При этом к концу 20-х гг. его трактовка поэтом сильно видоизменилась. Один из самых ранних текстов, где он поднимает эту проблему — стихотворение «Брюсову» 1923 г. В нем бессмертие рассматривается как результат ученичества:
Что, дó смерти теперь устав от гили, Вы сами, было время, поутру Линейкой нас не умирать учили? [Пастернак 1990: I, 216]. В стихотворении «Цветаевой» 1928 года посмертная слава трактуется уже по-другому. После физической смерти поэт «…двинется подобно дыму / Из дыр эпохи роковой…», а затем
Судеб, расплющенных в лепеху, И внуки скажут, как про торф: Горит такого-то эпоха. [Пастернак 1990: I, 205]. Во «Втором рождении» посмертная слава как слияние с природой было сформулировано Пастернаком в стихотворении «Любимая — молвы слащавой…»: «А слава — почвенная тяга…» [Пастернак 1990: I, 359]. У раннего Бродского этот тематический комплекс также претерпевает изменения. Мотивы поэтического бессмертия и посмертной славы возникают еще до ссылки (вспомним, хотя бы «Большую элегию Джону Донну»). Однако только в норенском корпусе появляются стихотворения, в которых повествователь сигнализирует о том, что сам автор рассматривает тему посмертной славы всерьез по отношению к себе. Интересно, что в стихотворении «Я памятник воздвиг себе иной…», в котором инкорпорирована прямая отсылка к этому тематическому комплексу, речь о поэтическом бессмертии все-таки не идет. Стихотворение представляет собой метафорическое описание не посмертной судьбы, а будущей земной жизни поэта. В стихотворении, написанном ок. 1961 г., повествователь напрямик заявляет: «Бессмертия у смерти не прошу…» [I: 153]. Вообще когда Бродский до ссылки писал о славе, то чаще всего подразумевалась слава земная, прижизненная, равная успеху, а также имеющая материальное выражение. «Пускай о славе радио споет нам» [I: 39], — говорит герой стихотворения «Теперь все чаще чувствую усталость…» 1960 г. Успех и слава соположены, например в «Романсе Коломбины» из «Шествия». «Добрый путь, добрый путь, возвращайся с деньгами и славой» [I: 160], — напутствует повествователь адресата стихотворения «Письмо к А. Д.» 1961 г.
удачный день и вдоволь хлеба… [I: 151]. Так описывается возможное будущее адресата «Рождественского романса» 1961 г. В ссылке у Бродского впервые в полной мере развернут мотив посмертной славы, хотя в стихотворении «Холмы» 1962 г. уже появляется словосочетание вечная слава [I: 234], а также образ славы, связанный с образом Леты в «Большой элегии Джону Донну» [I: 248]. Мотивы посмертной славы и поэтического бессмертия несколько раз возникают у поэта в стихотворениях норенского корпуса. В «Прощальной оде» 1964 г. подснежная слава [I: 309] возникает в связи с мотивом сна/ смерти лирического героя. В «Сонете» того же года («Прислушиваясь к грозным голосам…»), говоря о судьбе своих стихов, поэт заявляет:
на полпути к погибели и славе… [I: 353]. В стихотворении «Услышу и отзовусь» повествователь сулит героине (адресату текста): «И охватит тебя тишиной и посмертной славой…» [I: 370]. Мотив смерти в непосредственной связи с мотивом поэзии мы встречаем в стихотворении «Сжимающий пайку изгнанья…» [I: 319], написанном еще в архангельской пересыльной тюрьме, для которого Бродский сознательно выбрал высокий слог. В этом стихотворении наблюдаются отсылки к стихотворению Пушкина «Памятник». Строки
как птица на рощу, кричит, да гордое эхо рассеян засело по грудь в белизну [I: 319]. отсылают к пушкинскому тексту, — вспомним хотя бы строку слух обо мне пройдет по всей Руси великой. С «Памятником» это стихотворение Бродского сближает также мотив языка, который становится центральным для этого текста. Язык здесь представлен в трех значениях: часть тела поэта, национальный язык, пламя свечи. При этом лирическому герою свойственно неразличение этих значений. Герой шевелит языком, подобно свече, сияние русского ямба светит жарче, чем лампа. В результате такого неразличения читателю сложно понять, которое из трех значений автор имеет в виду под великим пламенем в конце стихотворения, которое колеблется вместе с героем, — первое, второе, третье, или все вместе. Однако это не мешает автору донести до читателя основное послание: после физической смерти поэта остается язык, в котором поэт обретает бессмертие. Кроме того, мотив посмертной славы у Бродского в период ссылки тесно связан с сюжетом растворения в пейзаже (см. II.2.), что заставляет нас понимать поэтическое бессмертие не только как известность среди людей, но и как слияние с природой. I.4.7. Пейзажи у Бродского и у Пастернака С пастернаковской строкой «А слава — почвенная тяга…» связаны мотивы родства со всем, что есть, и растворения в дали социализма (которая, кстати, понимается как вполне конкретная, пейзажная даль) из сборника «Второе рождение». Можно сказать, что Пастернак создает некоторый метасюжет, к которому весьма близок метасюжет растворения в пейзаже у Бродского (см. II.2.) Возникновение этого сюжета у Пастернака стало следствием синтеза исследованных нами выше амплуа честного — простого — первого — опального — старого — бессмертного поэта. Бродский во многом с оглядкой на Пастернака повторяет эту стратегию поведения, в результате чего возникает подобие поэтик двух писателей. Однако Бродский идет дальше: он актуализирует для себя амплуа безумного/юродивого поэта как логическое завершение мотива мудрости/старости. Это позволяет автору занять внеположную позицию и одновременно избежать ответственности «администратора» литературного процесса. Бродский еще в ранних стихотворениях перенимает у Пастернака своеобразную манеру субъективации пейзажа. Говоря о пейзаже в поэзии романтизма, Г. А. Гуковский описывает способность героя наделять окружающее пространство чертами своего эмоционального состояния [Гуковский: 40–41]. М. Ямпольский сближает это явление с тыняновским понятием «единства и тесноты стихового ряда» и на примере стихотворения Бродского «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…» 1989 г. показывает, как происходит такое экстраполирование:
используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод — посуду, а что до пустыни, пустыня повсюду [III: 190]. Однако уже по этому отрывку мы видим существенное отличие пейзажной техники Бродского от романтической. В стихотворении происходит не наделение явлений природы атрибутами психологического свойства, а построение пейзажа исходя из некоторой предзаданной концепции (в данном случае задача лирического героя — описать ситуацию Рождества). В свою очередь, пейзаж, составленный в соответствии с концепцией, диктует определенное эмоциональное и физиологическое состояние лирическому герою. Грубо говоря, в ситуации Бродского не пейзаж уподобляется герою, а наоборот. Чтобы воссоздать пейзаж, герой должен достигнуть определенного психофизиологического состояния, а для этого он должен представить себе детали этого пейзажа. Наглядно показать зависимость пейзажной техники Бродского от поэтики Пастернака позволяет сопоставление двух текстов этих поэтов: стихотворения «Все сбылось» 1958 г. из сборника «Когда разгуляется» и «Новых стансов к Августе» 1964 г., центрального текста норенского корпуса100. Многие мотивы стихотворения Бродского перекликаются с пастернаковским текстом. Это, например, мотив грязи под ногами героя (Пастернак: «Я с глиной лед, как тесто, квашу, / Плетусь по жидкой размазне…» [Пастернак 1990: II, 125], Бродский: «сапог мой разрывает поле…», «Стучи и хлюпай, пузырись, шурши. / Я шаг свой не убыстрю» [I: 386]). Бродский заимствует сюжет пастернаковского стихотворения: лирический герой входит в лес. То, что он оказывается в природном пространстве, обусловливает определенное изменение его мышления. У Пастернака герой перестает различать прошлое и будущее:
Всю будущую жизнь насквозь. Все до мельчайшей доли сотой В ней оправдалось и сбылось [Пастернак 1990: II, 125]. Затем герой утрачивает свою идентичность, превращается в повествователя. Сравнивая себя с птицей («Как птице, мне ответит эхо…» [Пастернак 1990: II, 125]), повествователь делает птицу в пятой и шестой строфах основным объектом наррации, стирая тем самым грань между субъектом повествования и окружающей его природой. Вхождение в лес, таким образом, преподнесено как обретение героем своего естественного места обитания и одновременно растворение в пейзаже. В стихотворении Бродского достижение рассказчиком состояния тотального неразличения также становится сверхзадачей повествования:
и мир течет в глаза сквозь решето, сквозь решето непониманья [I: 389]. В финале стихотворения пишущий стихи герой представлен как органичная часть природы, лесного пейзажа («Но тень еще глядит из-за плеча / в мои листы и роется в корнях…» [I: 389]). Подобная пейзажная техника в целом и отдельные мотивы пейзажной лирики характерны и для других стихотворений норенского корпуса. В таких стихотворениях, как «Малиновка», «Дни бегут надо мной…», «Дом тучами придавлен до земли…» и др. появляются «сюжетные пейзажи», характерные для поэзии Пастернака периода «Второго рождения» (вспомним, напр., стихотворение «Волны»). Стихотворение «Дни бегут надо мной….» сближают с «Волнами» кроме всего прочего сближают некоторые общие мотивы: туч, изображенных в виде стада овец, изогнутого горизонта и др. Если в романтической традиции душевный мир героя описывался языком пейзажа, то у Бродского пейзаж часто описывается с помощью понятий из области идей. Это явление мы бы назвали концептуализацией пейзажа101. Итак, сопоставление пастернаковских текстов 30-х гг. с норенским корпусом позволяет нам сделать следующие выводы. Бродский несомненно находился под влиянием Пастернака, хотя следы этого влияния у него часто завуалированы. При этом для Бродского становятся важны пастернаковские автобиографические элементы на уровне его поэтики и литературная позиция Пастернака на уровне поэтики поведения. Они и становятся объектами подражания для Бродского, что влечет за собой и текстовые переклички между обоими писателями. ПРИМЕЧАНИЯ 1 [Вайль, Генис]. 2 Терминологические вопросы, связанные с ленинградской неофициальной культурой периода позднего соцреализма, подробно рассматриваются в книге Станислава Савицкого [Савицкий: 23–24]. В частности, исследователь выделяет термин «андеграунд», как наиболее удачный для описания той литературной парадигмы, к которой относил себя И. Бродский. 3 Вот, например, как В. Уфлянд описывает получившую скандальную известность акцию, которую провели еще в 1951 г. несколько студентов ЛГУ во главе с М. Красильниковым, объединившихся впоследствии, по словам Кривулина, в неофутуристический кружок: «Любопытная такая была демонстрация: футуристическо-славянофильская. Они ходили в каких-то косоворотках, демонстративно хлебали тюрю и распевали стихи Каменского на народные мотивы….» [Якимчук: 80]. Впрочем, В. Кривулин утверждает, что распевались стихи Хлебникова [Кривулин 1997: 349]. 4 Вспомним например фамильярные обращения «старина» и «старик» в стихотворениях «Письмо в бутылке» 1964 г. [I: 365] и «На смерть Роберта Фроста» 1963 г. [I: 245], явно указывающие на распространенный среди читающей молодежи конца 50-х — начала 60-х «хэмингуэевски-ремарковский» сленг. В связи с «музыкальными» сигналами см. также работы Е. Петрушанской [Петрушанская 2003], [Петрушанская 2003a]. 5 Попытка выявления и систематизации этих тем делается С. Савицким в его работе [Савицкий]. 6 Так, рассуждая о громких ленинградских политических процессах 60-х (два из них напрямую связаны с Бродским: во-первых, так называемое дело Шахматова-Уманского 1961 г. и, во-вторых, собственно процесс над поэтом 1964 г.), Савицкий пишет: «Антисоветскость андеграунда скрывает за собой игровой религиозно-художественный опыт, сопоставимый с модернистским жизнетворчеством. Процессы над литераторами <…> свидетельствуют не о политизации словесности и причастности к диссидентскому движению, но об опыте эстетизации повседневности, основанном на мощной пока что не до конца проявленной художественной мифологии. «Антисоветскость» могла входить в кодекс основных идей сообщества, но это не означает, что писатели видели себя борцами на баррикадах политической оппозиции и — тем более — были ими в действительности. <…> пример Т. Горичевой и В. Кривулина относится к тем самым исключениям, подтверждающим правило. Ни И. Бродский, ни С. Довлатов, ни Горожане, ни ВЕРПА, ни Хеленукты, ни многие другие неофициальные авторы не связывали свои литературные занятия с политикой и были изолированы от диссидентской среды» [Савицкий: 55]. 7 Стоит вспомнить, к примеру, возмущение критиков по поводу нехарактерных для русской традиции метафор в первых романтических опытах Жуковского (см. об этом, напр.: [Гуковский: 73–78]); или сарказм В. Соловьева по поводу сборника «Символисты» [Соловьев]. В случае Бродского такое неприятие продолжается до сих пор. Вот характерная реплика свидетеля обвинения Николаева (пенсионера) на процессе 1964 г.: «По форме (курсив мой — В. С.) стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносят. Бродский не просто тунеядец. Он — воинствующий тунеядец.» [Гордин 1989: 157]. По сути, это обвинение мало чем отличается, например, от заявлений Карабчиевского об отсутствии духовности в стихах поэта, о том, что они представляют собой исключительно формальный эксперимент [Карабчиевский], или от нелицеприятных определений, которые дает Солженицын поэтическому языку Бродского (см. «Заключение»). Интересно, что когда «сторонники» поэзии Бродского пытаются защищать его от подобных нападок, это выглядит не очень убедительно (см., напр.: [Куллэ 1990: 78]). 8 Так, Савицкий пишет: «<…> примеры графических стихов А. Вознесенского и Л. Аронзона наводят на мысль о том, что ни поэтика, ни тематика, ни отсылка к традиции не являются организующим началом неофициальной литературы — тем, что объединяет авторов в сообщество институционально не признанных литераторов. Разумеется, можно довольствоваться социальным взглядом на литературу и критикой идеологической интерпретации. Однако это не приблизит нас к ответу на вопросы: как описать историческую разницу между А. Вознесенским и Л. Аронзоном, которые так похожи авангардистскими техниками, их жанровым наполнением и выбором литературных кумиров? Какая связь объединяет Л. Аронзона с неофициальными авторами и исключает близость с официозом? Какова культурная корпоративность неофициальных литераторов, в чем состоит их общность?» [Савицкий: 55]. Далее исследователь выделяет несколько общих признаков авангардной поэтики, основываясь на самооценках представителей самой этой неофициальной литературы. Как нам кажется, автору не вполне удается преодолеть данное противоречие. 9 Такая стратегия поведения, ориентированная на вписывание себя в определенную культурную парадигму, что была сродни психологическому институту социализации, не была исключительной особенностью изучаемого нами автора. В большей или меньшей степени она затрагивала всех вовлеченных в литературный процесс сверстников Бродского. Этим, на наш взгляд, можно объяснить популярность ЛИТО в Ленинграде середины 50-х — начала 60-х гг. Их посещал и Бродский, в частности ЛИТО Технологического института, с которого началось его знакомство с Рейном, Найманом и Бобышевым. Стремление к объединению молодых литераторов в группы, таким образом, было яркой отличительной чертой неофициальной молодежной культуры, и определяло стратегию поведения большинства ее участников. 10 В этой связи вспомним, что и вышеупомянутая красильниковская акция также ориентировалась на авангардно-модернистские модели литературного быта. 11 Приведем в этой связи также красноречивую цитату из воспоминаний Т. Венцлова об Ахматовой: ««Поэты круга Бродского — одна школа, как были когда-то мы, акмеисты. Технический уровень у них всех необычайно высок. Почти нет плохих стихов», — часто говорила она. Сегодня Бродский говорит то же самое о новейших русских поэтах, присылающих ему свои сочинения» [Венцлова 2001: 89]. 12 Бесспорно, для самой Ахматовой проблемы поэтического поведения и автомифотворчества были чрезвычайно актуальны. Кроме того, А. Жолковский убедительно показывает, как поэтесса умела проецировать собственные поведенческие модели на биографии других поэтов, в частности, Бродского [Жолковский 1998]. 13 Лев Лосев прямо называет Бродского реинкарнированным Поэтом Серебряного века, законным отпрыском, чудесно появившегося на свет после промежутка в одно-два поколения [Лосев Л. 2003: 333]. 14 Об этом стихотворении вообще нужно говорить отдельно в связи с мессианством у Бродского и пастернаковскими аллюзиями. 15 Здесь стоит обратить внимание также на эмоциональный подтекст этих реплик. В Бродском борются два отношения к Пушкину — укорененное в культуре и личное. Культурный статус Пушкина — «первый поэт», и его роль в разные эпохи должен играть лучший. Но для Бродского в данном случае первый и лучший — разные вещи. И Бродский, конечно, знает, «кто имеет больше прав на пушкинскую роль» — Блок с его «дурновкусием» [Бродский 1998: 228]. Тем более, что с личной т. зр. оценка Бродским роли Пушкина не так однозначна. Говоря о «правах» поэтов Серебряного века на пушкинское место, Бродский на самом деле решает дилемму Пушкин vs Баратынский. И это не праздные рассуждения, поскольку на самом деле речь здесь идет о поэтическом амплуа самого Бродского. 16 Такая автопроекция Бродского на фигуры Мандельштама и Баратынского очень похожа на явление, которое Бетеа описывает с помощью понятия «треугольное видение» (triangular vision) [Bethea]. 17 Мы исследуем связи текстов Бродского с текстами других авторов в первую очередь для изучения его поэтической стратегии. 18 Характерно, что в ранних текстах поэта форма будущего времени глагола яв-ляется одной из наиболее употребимых. Достаточно вспомнить зачины наиболее известных стихотворений: «Прощай, / позабудь…» [I: 19], «На Карловом мосту ты улыбнешься…» [I: 62], «Воротишься на родину. Ну что ж…» [I: 87], «Закричат и захлопочут петухи…» [I: 194], «Когда подойдет к изголовью…» [I: 206], «Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать. / На Васильевский остров / Я приду умирать….» [I: 225], «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…» [I: 226] и др. И напротив, форма прошедшего времени весьма непопулярна. Рост ее актуализации связан как раз со временем ссылки в Норенскую. Отдельного внимания заслуживает исследование императивов в поэзии Бродского. 19 См. об этом: [Курганов 1998]. См. также о жанре элегии у Бродского: [Pilschikov]. 20 Сложившиеся в Норенской представления поэта о соотношении литературной биографии и «автобиографического текста» сохранят для него свою актуальность и далее. Позднее, когда Бродский оказывается в эмиграции, он развенчивает литературную биографию, как миф, характерный для тоталитарного общества. По его словам, в условиях демократического общества этот миф является реальностью только для писателя-изгнанника, попавшего из авторитарного режима в демократию [Бродский 1998: 314–315]. Исходя из этого, Бродский реальность своей литературной биографии, реализовавшейся в СССР, рассматривает как часть «автобиографического текста», по своей природе во многом мифологического. Свое же пребывание в США в качестве американского поэта он снова описывает как конец биографии. 21 То, что Блюм описывает термином «страх влияния» (anxiety of influence) [Bloom], который в последнее время активно употребляется исследователями творчества Бродского. 22 Проблеме жанра у Бродского посвящена работа Полухиной [Полухина 1995]. См. также исследование Е. Семеновой, посвященное определению жанровой принадлежности цикла «Часть речи» [Семенова]. 23 О связи поэтического языка с литературным бытом, а, следовательно, и с литературным поведением, пишет Тынянов [Тынянов 1977a]. 24 Мы трактуем этот термин вслед за Бахтиным как «<…> множественность равноправных сознаний с их мирами» в тексте [Бахтин: 14, 208]. 25 В этой связи было бы интересно исследовать язык и стиль стихотворений Бродского с точки зрения стилизации и сказа (см., напр.: [Эйхенбаум]). 26 Для подзаголовка поэмы характерна явная жанровая отсылка к «Мистерии-Буфф» Маяковского, замеченная еще А. Ранчиным [Ранчин 2001: 399]. Следует также отметить, что Бродский отсылает нас к мистерийной традиции, имевшей свою специфику [Смирнов А.: 141–142]. 27 О том, что «Мрамор» трудно ставить на сцене из-за психологического неправдоподобия пишет В. Кривулин [Кривулин 1991]. См. также у И. Ковалевой о генезисе этой пьесы: [Ковалева 2003]. 28 О похожем явлении у Пушкина пишет В. Виноградов в своей монографии, посвященной стилю поэта: «Стили Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для оригинального творчества» [Виноградов 1941: 484]. Укажем также на другие работы этого ученого, касающиеся проблемы литературного стиля: [Виноградов 1935], [Виноградов 1980] и др. 29 Добавим, что само по себе введение мотивов маски и маскарада уже отсылает к символистской традиции. 30 Не случайно Л. Толстой в статье «О Шекспире и драме» пытался выявить якобы нелепость фабулы и надуманность персонажей «Короля Лира». По мысли Ю. Левина [Левин Ю. Д.]., отрицая психологизм Шекспира, Толстой невольно продемонстрировал, что этот психологизм не существует вне шекспировской поэтики. 31 Написанная, кстати, в пику Л. Толстому. 32 По мысли Чекалова, отсюда проистекает и полифоничность поэзии самого Анненского: «Мы гамлетизируем все, до чего ни коснется тогда наша плененная мысль» [Анненский: 172]. Отсюда — многоточия, разнообразие вопросительных интонаций у Анненского. Внимание поэта к теме раздвоения личности в античной и западноевропейской драматургии породило мотивы раздвоенности в его лирике. 33 Сам Пастернак подчеркивал, что он опирается на домодернистскую традицию переводов Шекспира: «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим.» [Пастернак 1970: 342]. 34 Цит. по: [Эткинд: 45]. 35 «Гамлет» Шекспира вообще был одним из культовых текстов среди «поэтов круга Бродского». Стоит вспомнить хотя бы неопубликованную драматическую поэму А. Сергеева на тему «Гамлета» — см.: [Венцлова 2001: 80]. 36 О сонетной форме у Бродского в связи с сонетами Шекспира см.: [Подрубная]. 37 Цит. по: [Гордин 2000: 137–138]. 38 Впрочем, это одно из любимых выражений Бродского, первый раз он приводит эту цитату из Монтале в 1977 г. в эссе «В тени Данте» [Бродский 1999: 109], в 1988 г. она снова встречается в эссе «Как читать книгу» [Бродский соч.: VI, 85]. 39 При этом в интервью с С. Волковым Бродский скептически отозвался о пастернаковских переводах: «Или возьмем переводы из Шекспира Пастернака: они, конечно, замечательны, но с Шекспиром имеют чрезвычайно мало общего» [Бродский 1998: 139]. Следует заметить, что эти беседы с поэтом записывались в период с 1978 по 1984 годы, когда Бродский достаточно хорошо овладел английским языком и был уже знаком с английской поэтической традицией. 40 Судя по всему, именно это издание и было в распоряжении Бродского в 1962 г. Кстати, это единственное издание первоначального варианта пастернаковского перевода, напечатанного в 1940 г. в журнале «Молодая гвардия» (см. об этом: [Шекспир 1968: 777]. Известно, что Пастернак подвергал неоднократной правке текст перевода (в основном, по настоянию В. И. Немировича-Данченко — см. об этом, напр.: [Пастернак Е.: 548–550]), и все последующие издания «Гамлета» выходили с изменениями. Поэтому во всех остальных прижизненных изданиях перевода, вплоть до последнего, появившегося в 1953 г. эти строки звучали по-другому: «Бьет в грудь себя и плачет и бормочет / Бессмыслицу…» [Шекспир 1953: 280]. То, что в последней правке, сделанной поверх печатного текста издания 1953 года, Пастернак вернулся к первоначальному звучанию этих строк, лишний раз говорит в пользу того, что вариант с глаголом «бормочет» был создан под давлением театралов. Эта правка была учтена при первом посмертном издании пастернаковского перевода трагедии [Шекспир 1968: 209]. 41 В издании 1953 года слово «шлык» заменено словом «плащ» [Шекспир 1953: 280]. 42 При этом, возможно, своим происхождением этот мотив обязан поэзии Дж. Донна, известная выдержка из стихотворения которого стала эпиграфом к роману Э. Хэмингуэя «По ком звонит колокол». 43 Здесь нужно сказать пару слов о своеобразии пастернаковского гамлетизма. Этот вопрос раскрывается А. Семененко в его диссертации [Семененко]. Автор исследования наглядно показывает, как Пастернак «вписывает» в образ Гамлета актуальные для себя тематические комплексы, и одновременно проецирует гамлетовские черты на собственную поэтику: мессианство, самопожертвование, как поэт соотносит своего лирического героя с Гамлетом и с Христом (что тоже было хорошо изучено) [Clayton, Douglas]. Несмотря на то, что шекспировские мотивы стали появляться у Пастернака еще в ранних стихах, для нас особенно интересно преломление этой тематики в позднем творчестве писателя, в стихотворениях «Гамлет», «Гефсиманский сад». Мессианские мотивы у Пастернака появляются и раньше (см., например, финал поэмы «Лейтенант Шмидт», где казнь героя описывается как Крестный путь, а место казни — как Голгофа [Пастернак 1990: I, 298–301]. Связь мессианских мотивов с театральной тематикой появляется в стихотворении 1930 года «О знал бы я, что так бывает…», о котором мы будем говорить отдельно (см. I.5.). 44 «С середины 50-х их переписывали от руки, перепечатывали, заучивали наизусть уже далеко за пределами окололитературной среды» [Кривулин 1997: 345–346]. 45 Именно хореем с урегулированным чередованием четырех- и трехиктных строк была написана «Светлана» Жуковского. 46 См., напр.: [Гаспаров 1979]. 47 Хорей с урегулированным чередованием четырех- и трехстопных строк. 48 В связи с этим образом вспоминается поэма Шекспира «Феникс и голубка», а также поэма Цветаевой «Феникс». 49 «В свое время это мог быть крупный скупщик земель, погрязший в разных закладных, долговых обязательствах, судебных протоколах и актах о взыскании. В том ли пеня на пеню и взысканье по взысканью со всех его земельных оборотов, что голова его пенится грязью и вся набита землей?» [Шекспир 1941: 140–141]. См. также разговоры с могильщиком о глине, в которую превратился Александр Македонский. [Шекспир 1941: 145–146]. Отсюда, собственно, происходит и мотив глины в связи с мотивом смерти в позднем стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» («И пока мне рот не забили глиной, / из него раздастся лишь благодарность» [III: 7]). «Гамлет», таким образом, является еще одним претекстом этого стихотворения — в добавление к трем, обнаруженным В. Полухиной [Полухина 1998: 51]. Кстати, рефлексия над темой ссылки в этом стихотворении играет большую роль. 50 В издании 1953 года это предложение звучит иначе: «Вот вам укроп, вот водосбор» [Шекспир 1953: 283]. 51 Характерно, что стихотворение в некоторых местах воспроизводит ритмический рисунок пятистопного анапеста. И. Кукулин [Кукулин], исследовавший семантический ореол пятистопного анапеста у Бродского, подчеркнул близость содержания некоторых его текстов с «Девятьсот пятым годом». 52 Традиция литературного «безумного дискурса» тесно связана с «театральным безумством». Вспомним, напр., что в финале гоголевских «Записок сумасшедшего» Поприщин говорит языком Шекспирова Короля Лира. 53 См.: [Зубова Н.]. В этой статье также приводится цитата из «Возвращения с Парнаса», в которой основным признаком мастерства клоуна считается способность искривить рот [Зубова Н.: 187]. Ср. это с мотивами искривленного рта в стихотворениях «Строфы» и «Вдоль темно-желтых квартир», которые мы разбираем ниже. 54 Характерно, что в некоторых текстах такая композиционная техника будет связана с жанром басни, напр., в стихотворении с характерным названием «Притча» 1962 г. (несмотря на то, что басня и притча — жанры разные, Бродским они воспринимаются как близкие, особенно учитывая, что он был хорошо знаком с поэтической традицией XVIII в.) В «Притче» монолог лирического героя написан предложениями с затемненной субъектной структурой. Завершается стихотворение строчкой «И он сошел во тьму с холмов еврейских» [I: 221], где повествователь говорит о лирическом герое в третьем лице. Об исконном родстве жанров басни и притчи см.: [Гаспаров 1991]. Вообще, влияние басенной традиции в творчестве Бродского следует изучать отдельно. 55 Образ искривленного рта встречается ранее в стихотворении «Вдоль темно-желтых квартир…» (1962–1963): «Страшное слово «вперед» / губы мои кривит…» [I: 239–240]. Оно, кстати, находится тоже в рамках этой ритмической инерции и выстривается в соответствии с «поэтикой безумия» Образ лампочки объеднияет его со стихотворением «Черные города». Вспомним также строчку «И смех мой крив…» [I: 387] из «Новых стансов к Августе». Отдельно в этом стихотворении следует ометить отсылки к блоковским стихотворениям, прежде всего — к «Фабрике». Желтизна окон здесь трансформируется в желтизну квартир, но метонимическая замена образа жильцов образом окон в одном случае, и образом квартир — в другом — остается неизменным. Герой идет у всех на виду, на посмешище, как рабочие на фабрику в стихотворении Блока. В обоих случаях тени играют роль второстепенных персонажей. Похожи эти стихотворения и по композиции: у Блока повествователь смотрит (точнее, слушает) сверху («Я слышу все с моей вершины…»), что объясняется биографическим контекстом, о чем пишут комментаторы Блока (см. комментарии к этому стихотворению [Блок: I, 610]). У Бродского же герой одновременно и повествователь и персонаж, поэтому он может занять позицию наблюдателя сверху («взгляд мой еще парит…»). В этом тексте интересно также то, что он строится как разворачивание пословицы «Что написано пером — не вырубишь топором». 56 Интересен здесь двуплановый образ полушария, сопоставляющий земной шар с человеческим мозгом. Такое сопоставление мы встречаем также в стихотворении «К Урании» (см. гл. II.3.). 57 Интересно, что в «норенском корпусе» церковная тематика часто сочетается с тематикой игры, театра. В коротеньком стихотворении «Отскакивает мгла…» 1964 г. [I: 342] мотив двуличия, о котором говорит повествователь в связи с маскарадностью дома лирического героя, появляется в связи с мотивом колокольного звона. 58 См.: [Петрушанская 1997], [Петрушанская 1998а]. 59 См.: [Семенов 1998], [Семенов 1998a]. 60 Вопрос о том, являются ли Горбунов и Горчаков двумя разными персонажами, или это один герой, претерпевший раздвоение личности, давно занимает исследователей (см. [Проффер]), но так и не получил окончательного решения, так как в тексте это остается загадкой. Вопрос не праздный, так как в одном случае в тексте будет доминировать драматическое начало, а в другом — лирическое. См. об этом также: [Змазнева 2000а]; [Змазнева 2000b]. 61 В издании 1953 г. — «<…> какою она сделается когда-нибудь…» [Шекспир 1953: 291]. 62 См., напр.: [Куллэ 1996], [Ковалева 2000], [Грудзинская-Гросс] и др. Сразу скажем, что влияние конкретных текстов мировой литературы XX в. на поэзию Бродского не является предметом рассмотрения в этой главе. 63 Мы будем использовать этот термин вслед за Е. М. Мелетинским (см.: [Мелетинский 1976], [Мелетинский 1998]). Мы сознательно не используем термин «неомифологизм», также описывающий это явление, поскольку он также употреблялся З. Г. Минц по отношению к отдельным текстам Серебряного века [Минц]. 64 В основном мы имеем в виду его фундаментальное исследование посвященное мифу (см.: [Мелетинский 1976]. 65 Отсюда, в частности, мотив кружения, (подробнее о нем — в II.4.), что отсылает к размышлениям Стивена из романа Джойса об истории как кружении на одном месте. Эта проблема требует отдельного изучения. 66 Ср. с рассуждениями А. Ставицкого по поводу образа вещи у Бродского как способа создания автомифа и языка метаописания [Ставицкий]. 67 Неслучайно, что у многих исследователей изучение хронотопов в лирике Бродского часто перерастает в рассуждения о пространстве и времени как о квазифилософских категориях в «философской системе» поэта, которую которую корректнее было бы рассматривать как авторскую мифологию. Такие тенденции наблюдаются уже в работе М. Ю. и Ю. М. Лотманов [Лотман, Лотман]. См. также: [Найман 1990], [Вайль 1995], [Ваншенкина] и др. 68 В первую очередь мы имеем в виду работы И. Ковалевой [Ковалева 2000], [Ковалева 2001], [Ковалева 2003], [Ковалева 2003a]. Косвенно эту проблему затрагивают очень многие работы, см., напр.: [Куллэ 1996], [Зубова Л.], [Петрушанская 1998] и др. 69 Об этом стихотворени см. также: [Ковалева 2003a: 172]. 70 См., напр. [Pilschikov], [Курганов 1997]. 71 Относительно этого стихотворения стоит также отметить его связь с «Гуернавакой» 1975 г. из цикла «Мексиканский дивертисмент». При похожих схеме рифмовки и ритмико-метрической структуре у этих текстов есть много общего на сюжетном уровне: оба текста с помощью пейзажа изображают ремифологизацию, превращение реального пространства в «зарисовку с того света». Ср., например, переход упорядоченного, «аполлонического» пейзажа в хаотический, «дионисийский»: Сады и парки переходят в джунгли. Здесь можно говорить о субжанре «мифологических пейзажей» у Бродского. О «Мексиканском дивертисменте» см. также: [Тименчик 2000]. 72 О значимости совместного упоминания января и августа в других стихах Бродского пишет П. Вайль [Вайль 1998: 6]. 73 Родственный случай расщепления авторского я между персонажами стихотворения обнаруживают Г. Амелин и В. Мордерер, рассматривая строчку «…Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута…» из стихотворения «Колыбельная Трескового мыса» [Амелин, Мордерер: 144]. 74 Мотив невидимой улыбки хитреца отсылает к мотиву кривого смеха, о котором мы говорили в предыдущей главе. 75 См. подробный разбор мифологии этого стихотворения в: [Ковалева 2003a: 180–181]. 76 Этот пейзаж, оставшийся за спиной, отсылает нас к стихотворению «Я обнял эти плечи и взглянул…» 1962 г. Характерно, что в этом тексте значимо умалчивание повествователем любовной линии, которая дана только в первой строке, а весь остальной текст представляет собой натюрморт (повествователь, при этом, называет это пейзажем). Вид за спиной снова становится актуальным в стихотворении того же года «Прошел сквозь монастырский сад…», где волны становятся важным элементом «заспинного» пейзажа. 77 См. об этом также: [Павлов: 24]. 78 Об образе циркуля в метафизической поэзии и у Бродского см., напр.: [Шайтанов]. 79 См.: [Ранчин 2001: 372, 452], [Ковалева 2000], [Ковалева 2001], [Ковалева 2003a]. Интересные наблюдения о мандельштамовских и ахматовских подтекстах в стихотворении «Одиссей Телемаку» мы встретили в работе Л. Зубовой [Зубова Л.] 80 Отметим, что это не единственный опыт создания полемического текста у Бродского. К таким стихотворениям можно отнести более позднее «Посвящается стулу». Как убедительно показал в своей работе Р. Спивак [Спивак], это стихотворение Бродского является пародией на цикл «Стол» М. Цветаевой, причем пародией не столько на цветаевские тексты, сколько на саму ее философию творчества. 81 Это, в частности, образ людей с лопатами (могильщики), мотив превращения тела в голую вещь (ср. рассуждения Гамлета об Александре Македонском, который превратился в затычку бочки), мотив полой дудки, отсылающий к образу флейты из разговора Гамлета с Гильденстерном и т. д. 82 Так, например, о влиянии пастернаковских переводов на переводы Бродского из Донна говорит Вяч. Иванов [Иванов: 198], о перекличках рождественских текстов Бродского с «Рождественской звездой» Пастернака пишут С. Минаков [Минаков] и О. Лекманов [Лекманов 2000]. 83 См. также у Кушнера: «И поэтов он любил других: он — Пастернака и особенно Цветаеву, я — акмеистов и особенно Мандельштама. Сходились мы на Баратынском» [Кушнер: 7]. 84 Эти строчки одновременно отсылают еще к одному пастернаковскому тексту — стихотворению «В низовьях» из цикла «Стихи о войне» (сборник «На ранних поездах»). 85 См.: [Семенов 1998], [Семенов 1998a]. 86 В одном из поздних интервью Бродский буквально цитирует эту строчку Пастернака, описывая свою биографию: «<…> когда мне было 22 или 23 года, у меня появилось ощущение, что в меня вселилось нечто иное. И что меня, собственно, не интересует окружение. Что все это — в лучшем случае трамплин. То место, откуда надо уходить. Все то, что произошло, все эти бенцы, разрывы <курсив наш. — В. С.> с людьми, со страной. Это все <…> всего лишь иллюстрация такой тенденции ко все большей автономии, которую можно сравнить с автономией <…> космического снаряда. На протяжении человеческой жизни на вас действуют две силы, две гравитации — одна, которая вас тянет к земле, к дому, к друзьям, к любви; и другая, которая вас как бы немножечко вовне вытаскивает. И так со мной случилось, <…> что на самом деле меня действительно испытывает страсть к разрывам <курсив наш. — В. С.>, даже не страсть к разрывам, а тяга вовне, из дому.» [Бродский 1990d: 72–73]. 87 Наделение этого мотива эротическими коннотациями свидетельствует также в пользу заимствования Бродским пастернаковской техники иносказания, особенно когда дело касается любовной лирики. Об эротике у Бродского см.: [Лосев Л. 1995]. 88 Подробнее об этом см.: [Пастернак Е.]. 89 См. об этом, напр.: [Седакова]. 90 В этом смысле особый интерес представляет диалог Е. Б. Пастернака, сына поэта, с отцом, когда они наблюдали в окно похороны Надежды Алиллуевой: «Помню свое недоумение, высказанное папе: как Сталин может после случившегося продолжать жить по-прежнему. Боря мне объяснял, что для царей семейные драмы имеют другое, не абсолютное значение, что это им не так важно и вместе со всем остальным входит в их политическую жизнь» [Пастернак 1998: 379]. По нашему убеждению, это указывает, в частности, на рефлексию Пастернака относительно подчиненности его личной жизни собственным поэтическим стратегиям поведения. Проблематика «поэт и власть» была актуальна и для Бродского — см. об этом: [Прохорова]. 91 См., напр., отзыв Цветаевой о «Сестре моей — жизни» («Световой ливень»), сделанный кстати, в 1927 г. — ближе ко времени выхода «Второго рождения» [Цветаева: V, 233]. О цветаевской оценке роли Пастернака, как лучшего русского поэта, прямого преемника Пушкина, который обязан думать об ответственности за свои стихи, пишет в своей кн. И. Шевеленко [Шевеленко: 384]. 92 Здесь следует добавить, что о Пастернаке, как о писателе, который, наряду с Блоком, организует «свое творчество вокруг идеи саморазвития, темы пути» пишет также Д. Максимов [Максимов: 33]. 93 Не случайно московская партийная верхушка пыталась впоследствии представить дело Бродского как перегиб ленинградского партруководства. Характерно, как в Москве реагировали на подобные дела (по воспоминанию Н. Грудининой): «Лернер организовал общественный суд на «Электросиле» и над молодым преподавателем, ушедшим из института имени Герцена. <…> Но этот преподаватель поехал в Москву, в ЦК комсомола, там весь этот суд высмеяли и сказали: поезжайте домой и устраивайтесь на работу» [Якимчук: 81]. 94 Хотя можно говорить и о другом претексте — о «Столбцах» Заболоцкого. 95 О соцреалистическом каноне см.: [Гройс], [Берг]. 96 См., напр.: [Рейн 2004]. 97 Об образе юродивого у Бродского см. также: [Минаков]. 98 Термин был применен к текстам Бродского Я. Гординым: «Для Иосифа это было время появления «больших стихотворений», особого жанра, который и до конца остался для него главным — время «Шествия», «Большой элегии Джону Донну», «Холмов», грандиозной, но, увы, незаконченной поэмы «Столетняя война», сохранившейся у меня с авторской правкой» [Гордин 2000: 147] (см. также: [Бродский 1991: 11], [Гордин 2003]). 99 См. об этом: [Смирнов 1996]. 100 О сопоставлении «Новых стансов к Августе» с пастернаковским переводом «Стансов к Августе» Байрона см.: [Макфадьен]. 101 Подробнее о технике пейзажных стихотворений см. II.3.
* Вадим Семенов. Иосиф Бродский в северной ссылке: Поэтика автобиографизма. Тарту, 2004. С. 21–85. © Вадим Семенов, 2004. Дата публикации на Ruthenia 07/09/04. |