 |
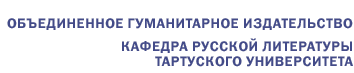 |
|
ВВЕДЕНИЕ* В 1862 г. большой знаток русской литературы первой половины XVIII в. академик П. Пекарский писал: «Едва ли панегирики и оды могут принадлежать рассмотрению серьезной литературы и скорее служат материалом для объяснения нравственной стороны известной эпохи. <…> Едва ли найдется такой исследователь, у которого бы достало сил на печальный труд писать историю нравственного унижения человеческого достоинства в людях» [Пекарский 1862, I, 362–363]1. Однако уже в 1923 г. Л. В. Пумпянский, например, оценивал этот род литературы совсем иначе: «Чтобы понять происхождение гениального дела 1739 г., надо вообразить ту первую минуту, когда восторг перед Западом вдруг (взрыв) перешел в восторг перед собой, как западной страной. <…> Следовательно одним восторгом можно исповедать и Европу и Россию! Это назовем «послепетровским» откровением («вторым» откровением) русского народа. Именно с ним, т. е. с восторженным исповеданием себя, связано пробуждение ритма в языковом сознании. Более могущественного открытия никогда не переживал русский народ» [Пумпянский 1983а, 310]. Пумпянский не был одинок в своем отношении к панегирической традиции как одному из основных истоков русской литературы XIX в. Именно в 1920-е и 1930-е гг. были написаны классические исследования Г. А. Гуковского и Ю. Н. Тынянова. К настоящему времени в изучении панегирической литературы сделано очень много: вышел целый ряд изданий, отдельных публикаций и обзоров, сделавший возможным изучение этих, как правило, труднодоступных текстов [Литературные панегирики; Панегирическая литература; Поэты XVIII века, I–II; Пьесы школьных театров; Русская силлабическая поэзия; Николаев, Николаев 1985; Позднеев и др.]. До недавнего времени еще казалось, что работы Г. А. Гуковского, Ю. Н. Тынянова, Л. В. Пумпянского и П. Н. Беркова наметили все основные направления в изучении панегирической литературы, очертили круг основных проблем и во многих случаях предложили если не окончательные, то чрезвычайно убедительные решения. Новые книги А. С. Елеонской «Русская ораторская проза в литературном процессе XVII века», В. М. Живова «Язык и культура в России XVIII века», А. М. Панченко «Русская стихотворная культура XVII века», Л. И. Сазоновой «Поэзия русского барокко» и ряд других существенно расширили наше представление о хронологических рамках существования панегирика, жанровом многообразии этого рода литературы и о том идеологическом контексте, в котором она существовала. Такая, в целом плодотворная, ситуация вновь поставила современного исследователя перед необходимостью разрабатывать частные вопросы в поисках решения проблем развития русской культуры XVIII в. во всем ее разнообразии и сложности. § 1. Система классицизма и проблемы литературной История русской похвальной оды2 не написана. Не существует отчетливой периодизации развития этого жанра, и традицией стало рассматривать его в первую очередь в связи с именем Ломоносова. В то же время, целый ряд ставших уже классическими исследований посвящен теории оды как жанра в системе классицизма. Такое положение не является случайностью. Наука о литературе XVIII в. традиционно ориентируется на концепцию, в основе которой лежит представление о системе классицизма как системе нормативной. С точки зрения такого подхода, всякий классицистический жанр переживает эпоху «становления», приближения к теоретически зафиксированной норме и затем, после недолгой эпохи стабильности или расцвета, подлежит разрушению и все более и более отходит от установленных норм или образцов. Эта концепция в общих чертах была намечена П. Н. Сакулиным и блестяще развита и аргументирована Г. А. Гуковским [Гуковский 1927; 1936; 1939; 1964 и др.]. На основании теоретических высказываний Ломоносова Гуковский строит «теорию жанра» оды и, опираясь на эту систему абстрактных правил и посылок, подходит к анализу ломоносовских текстов. «Различные произведения одного жанра мыслились рядом как многие произведения единой родовой сущности, — писал Гуковский. — Система данного произведения неизбежно проецировалась на фон общей системы признаков жанра, присутствовавшей в произведении как основа и схема его. По существу, жанр был подлинным носителем литературного произведения, отнесение к жанру было фактом первой локализации в его художественном становлении. Поскольку жанром, понятым данным образом, становились те или иные задания, эти задания определяли ход работ над должным решением их» [Гуковский 1929, 22]3. Ю. М. Лотман в работе «Литература в контексте культуры XVIII века» в главе, специально посвященной проблеме классицизма, писал по поводу приведенных выше слов Гуковского: «В дальнейшем эта мысль была упрощена и приобрела характер указания на то, что стихи Ломоносова не содержат, в отличие от державинских, автобиографических моментов. <…> Однако, когда говорят о деперсонализованном характере поэзии классицизма, совершенно упускают из вида, что, хотя Ломоносов не оставил в стихах о себе колоритных подробностей своей жизни, спутать его стих с каким-либо другим невозможно. Ни в каком жанре его оды не растворяются настолько, чтобы нельзя было бы их угадать по одной наугад взятой строке. То же можно сказать и о Тредиаковском, и о Сумарокове» [Лотман. Рук., 65]. Кроме понятия индивидуального стиля, в нормативной концепции классицизма растворялся и другой важный факт: сама «теория» того или иного жанра изменялась на протяжении 1730-х – 1780-х гг. (времени, которое традиционно связывают с господством классицизма в России). В дальнейшем такой подход к оде (так же, как, например, к трагедии) подчинил себе и описание тех сторон оды, которые зачастую определяются внелитературными факторами и подчинены иным ритмам развития. В первую очередь здесь следует говорить о топике и идеологии этого жанрового образования. Таким образом, первой посылкой предлагаемой работы будет стремление рассмотреть эволюцию жанра оды более пристально, поставив в центр наименее всего подчиненную теоретическим требованиям сферу топики и идеологии: в этой перспективе ода предстанет формой, переживающей разнообразную и сложную эволюцию. При этом речь пойдет не о том, нарушал ли Ломоносов свои теоретические установки — хорошо известно, что и Ломоносов, и Сумароков часто в своей поэтической практике занимали позицию, которую сами же объявляли ошибочной. Речь пойдет о том, что важнейшие сферы, наиболее активно влиявшие на эволюцию жанpa, не входили в круг тем, которые подлежали теоретическому осмыслению в рамках риторики той эпохи. Второй посылкой работы, тесно связанной с первой, будет ориентация на изучение замкнутого круга текстов. В случае, если мы знаем из пособий по риторике или иных теоретических трудов (русских или европейских), актуальных в ту эпоху, каким должен быть жанр оды, задача исследователя будет состоять в том, чтобы приложить это знание к конкретным текстам. Тогда соответствие посылки и реальной поэтической практики, тем более, если оно охватывает большое количество текстов, будет указывать, что принцип был усвоен и получил широкое распространение. В рамках этой исследовательской конструкции все тексты данного жанра составят своеобразную иерархию, где в центре будут стоять те, что являются точным воплощением нормы, и на периферии — «испорченные». В этом случае круг текстов, которые эта система будет описывать, остается принципиально открытым — каждый новый образец оды займет свое место в иерархии. Если отойти от такого «нормативного» подхода к оде, однако не отказываться от представления о единстве этого жанрового образования (хотя бы на основании того факта, что авторы ставят в заглавие своего произведение слово «ода» и обращают его к монархине), то проблема будет стоять несколько иначе. Нам необходимо будет замкнуть круг рассматриваемых текстов и исходить из представления о том, что все они в одинаковой степени соответствуют требованиям жанра. Тогда все описания, например, одического восторга мы будем рассматривать как одинаково «правильные» (так же, как и отсутствие таких описаний). Вопрос в этом случае будет стоять о том, по каким законам происходит отбор тем, идиоматики и других элементов оды теми или иными авторами или в те или иные промежутки времени. Решение такой искусственной задачи может быть обоснованным, только если «замкнутый» круг текстов будет совпадать со всеми реально написанными в определенную эпоху панегириками. К такому подходу возможно максимально приблизиться, поставив задачей описать все сохранившиеся и известные на сегодняшний день оды замкнутого во времени периода или же произведения одного автора4. В соответствии с этой установкой, в первой главе нами будут рассмотрены все известные на сегодняшний день оды аннинской эпохи, а во второй — оды Ломоносова. Поскольку первая похвальная ода на русском языке была посвящена Анне, а творчество Ломоносова доминирует и по объему (большинство похвальных од елизаветинской эпохи было написано именно этим автором), и по статусу (как непременный образец в эту эпоху), то мы получаем возможность проследить некоторые черты эволюции оды на протяжении трех десятилетий. § 2. Изучение топики и проблема формульного Выбор в качестве материала для исследования замкнутой группы текстов в определенном смысле противоречит тому факту, что ода ориентирована на широкое использование «общих мест в сюжетах, застывших и кочующих из текста в текст выражений и целых отрывков, тенденцию к подражанию» [Лотман. Рук., 65], «отношение к предмету через уже существующее слово», когда «всякое слово объяснимо историей бывшей поэзии» [Пумпянский 1983а, 312, 314]. В самом деле, ода, как и многие жанры литературы классицизма, говорит на своем собственном языке, для нее существует ограниченный набор тем и сюжетов, точно так же, как и способов представить их идиоматически. Идиоматика оды поразительно устойчива. Всякое клише оды когда-то было употреблено впервые. Яркий образец анализа оды Ломоносова в ее отношении к традиции, именно в сфере варьирования устойчивой одической топики и идиоматики, дал Л. В. Пумпянский. Сопоставляя Ломоносова с Малербом, он писал: «Обычное в XVIII в. уподобление Ломоносова Пиндару реального значения не имеет. Ученая Плеяда еще знала Пиндара, и Ронсар в «пиндарических одах» еще соблюдает, облегчая ее, строфическую структуру фиванской оды <…>. Но уже Малерб называет оды Пиндара галиматьей <…>. Пиндар становится своего рода полумифологическим эпонимом особого вида поэзии» [Пумпянский 1935, 111]. Совершенно иной смысл, по мнению Л. В. Пумпянского, имело приравнивание Ломоносова Малербу — это была близость, определенная отношениями прямого заимствования в сфере топики и идиоматики. Однако, например, тему тишины, «экономизм» ломоносовской оды Пумпянский возводит прямо к Малербу, но и к Малербу, преломленному в поэзии Гюнтера и Юнкера. В то же время, по замечанию исследователя, тема тишины знакома европейской одической традиции и по переводу Ронсаром первой пифической оды, но и по тексту самого Пиндара (Ломоносову, вероятно, по Пиндару — в первую очередь, а потом уже в переводах и переложениях) [Пумпянский 1935; 1983, 27–34]. Подводя итог своим наблюдениям, Пумпянский приходит к выводу: «В гипотетическом (никогда не реализованном) пределе, абсолютизм создал фикцию единой литературы на разных языках, а не гипотетически, приблизился к этому идеалу настолько, что литературное единство Европы <…> было относительно осуществлено. <…> Арсенал сложившихся жанров, тем (консолидировавшихся для каждого жанра), образов (закрепившихся за темой) и даже готовых словосочетаний переходит из страны в страну (с Запада на Восток, от Италии XVI в. до России XVIII в.), от поэта к поэту» [Пумпянский 1935, 131]. В такой ситуации, по-видимому, наиболее значимым станет факт отнесенности той или другой темы к традиции тогда, когда автор не просто разрабатывает общую для оды тему, а тем или иным путем отсылает читателя к ней. Это может быть и прямое называние актуального в том или ином случае предшественника, или введение узнаваемой и достаточно точной и большой цитаты, или какие-либо иные знаки обращения к определенной традиции (другое дело, что часто декларированное обращение к традиции будет ее видоизменять до неузнаваемости). Л. В. Пумпянскому же принадлежит и концепция «поведения» одического клише в тексте. По этой концепции клише существуют в глубокой и неразрывной связи с той или иной темой. Обращение к теме (когда восторженный автор объят «непрерывным, как поток, тематическим стремлением» [Пумпянский 1983а, 315]) автоматически требует употребления соответствующей идиоматики5. В результате, клише, оформляющие, например, тему «покорение Востока», используются даже такими мастерами жанра, как Ломоносов, вопреки историческим фактам, как элемент одического стиля. «Когда у Малерба, в оде 1596 г. на взятие Марсели Генрихом IV, — указывает Пумпянский, — за падением непокорного феодала Казо следует пророчество о завоевании Востока, это естественный и понятный ход мыслей <…> теперь в руках короля база для осуществления давних ближневосточных планов французских королей» [Пумпянский 1935, 113]6. Рассматривая оду Ломносова 1741 г. Иоанну Антоновичу, написанную от имени России, исследователь пишет: «Совсем другое в нашей оде, ибо между падением Бирона и завоеванием ближнего Востока:
и дальнего:
Индийских трубят вод тритоны — Пумпянский апеллирует здесь к небольшому отрывку ломоносовского текста, тем самым разрушая общий ход мысли автора. На самом деле, тема Востока в данном случае имеет совершенно определенную мотивировку. Анализируемый Пумпянским эпизод оды начинается стихами:
Незнаем шум мой слух неволит; Вручает вечность мне свой ключ. Отмкнулась дверь, поля открылись, Пределов нет, где б те кончились [22, 40]. То есть «восторг» переносит рассказчика в иное пространство — воображаемое пространство «вечности», в котором пребывают «герои»: тут он видит победы древнерусских полководцев от Дуная до «мест ахайских»; затем — победы Александра Македонского. При описании последнего (к Бирону эта строфа не имеет отношения) Ломоносов, воспроизводя то или иное географическое название, отсылает читателя к известным эпизодам, связанным с именем Александра. Слова «Боязнь трясет хинейски стены» [22, 40] указывают на легендарный рассказ о посещении войск Александра китайскими полками; стихи «Геон и Тигр теряют путь» отсылают к театру военных действий знаменитого полководца; «Индийских трубят вод тритоны» и «Сколь много есть впреди светов?» — указание на знаменитую легенду о границе завоеваний Александра; и, наконец, слова «Пред тем, кто им дает законы» намекают на его известные утопические планы по спасению завоеванных народов от варварства7. В свою очередь, появление Александра в этой части оды мотивировано, с одной стороны, уже введенной темой молодого царя, которому суждено превзойти победы своего отца («Заплачешь, как Филиппов сын» [22, 37]); с другой — предваряет введение темы «младого героя» (с некоторой натяжкой: младой/младенец) и, возможно, имеет в виду тему «младого героя», правление которого началось с борьбы с «гигантом»-Бироном и Швецией (ее в оде олицетворяет Марс) — точно так же, как Александр Македонский начал свое правление с борьбы против непокорных Афин. Таким образом, и этот, и другие примеры автоматизма оды в нанизывании одного одического клише за другим, как правило, поддаются смысловой интерпретации8. Для Ломоносова и в данной оде, и в других его сочинениях, претворение образца есть форма заявления своего мнения, построение своей концепции. Ода, если это не массовая панегирическая продукция9, не является нагромождением обломков чужих текстов (точно так же и трагедия Ломоносова напряженно-концептуальна и не является соединением известных сюжетных сегментов). Обращение к одическим клише, представляющим ту или иную тему оды, как мы видели на примере одной из наименее удачных ломоносовских од, определено общей концепцией оды — ода «помнит» идею, которую «представляет» тот или иной штамп. Сравнительный материал необходим, чтобы выделить устойчивый элемент, определить исходный, родовой смысл формулы, и, как правило, смысл этот будет свойствен похвальной оде вообще. Настоящая работа будет ориентирована, в первую очередь, не на язык оды, то есть не на общий, родовой смысл клише (регулярное описание которого является, без сомнения, актуальной проблемой изучения оды). В центре нашего внимания будет та концепция, которая строится каждым конкретным текстом или группой текстов из этого строительного материала для описания русской государственности. Одическое клише, как, например, эмблема, обладает и смыслом (родовое значение формулы по отношению к жанру в целом), и значением (интерпретация этого родового смысла определенным контекстом). Мы будем ориентироваться именно на значение одического клише. § 3. Ода в контексте официальной придворной Ода в своей эволюции, как уже говорилось, во многом обращена к внелитературным факторам, прежде всего, к официальной идеологии. Следовательно, ода должна быть поставлена в контекст официальной придворной культуры. У этой проблемы есть несколько аспектов: вопрос об отношении одописца к адресату оды (вопрос «комплиментирования»); включенности оды в придворное ритуализованное «действо», как в реально-бытовом его аспекте, так и в аспекте генетических и типологических соответствий. За пределами рассмотрения мы оставляем вопрос об отражении в панегирике таких общекультурных процессов, как, например, сакрализация монарха в России XVIII в. [См.: Cherniavsky; Живов, Успенский 1994]. Отношение исследователей к комплиментарному характеру оды чаще всего получает выражение в представлении о том, что всякий честный поэт, и Ломоносов в первую очередь, не восхваляли недостойных монархов, а под покровом похвалы давали «уроки царям», прозрачно намекая на их недостатки, и выстраивали программу государственного строительства. Так, например, Г. А. Гуковский писал о том, что задача, «поставленная перед собой просветителями XVIII столетия, — открыть глаза не только народам, но и царям». Ломоносов, «подобно просветителям Франции <…> взял на себя обязанность пропагандировать истину, объяснять царице ее обязанности, служить ее учителем и вдохновителем»; его оды — «это манифесты той просвещенной власти, о которой мечтал Ломоносов» [Гуковский 1939, 98–99]. Это представление Гуковского об «утопическом» характере политической программы ломоносовской оды получило развитие в целом ряде работ [из последних по времени работ см., например: Иванов 1979, 174–175; Москвичева 1986, 24]. На другом полюсе стоит стремление осмыслить официально-комплиментарный характер русской оды в сравнении ее с подобной практикой, например, в Германии конца XVII–начала XVIII вв. Л. В. Пумпянский писал о немцах-академиках, создававших свои панегирики на службе у русской монархини: «Все эти люди приезжают в Петербург со сложившимися взглядами и сложившимися навыками социально-бытового поведения. <…> Они талантливые бюргеры, специализировавшиеся в обслуживании двора; невежество в метеорологии переворотов было бы профессиональным минусом». Среди «откровенных, вульгарных карьеристов», таких как, например, Юнкер, Пумпянский выделяет Ломоносова, Буало, Лейбница — «людей высоко принципиальных и политически не развращенных»: «Их связь с абсолютизмом была не виной, не результатом личной коррумпированности, а судьбой» [Пумпянский 1983, 5, 7]. В России эта болезнь не стала эпидемией — литература уже в 1740-е гг. становится литературой «дворянской» и по идеологии, и по социальному составу подавляющего числа авторов (в том числе и одописцев). Ситуация же 1730-х гг., когда академическая ода составляла значительную часть официальной поэзии, обладала в России своей спецификой, и мы остановимся на ней подробно в первой главе. В целом же обе очерченные крайности в описании отношений поэта и монарха сохраняют определенную долю оценки, хотя она и получает в обоих случаях форму указания на историческую необходимость. Однако субъективно (и для автора, и для читателя) ода имела совсем иной смысл — она была формой, в которую отливалась «монархическая эмоция», переживание своего отношения к монарху автором и читателем. Именно эта «психологическая реальность» оды определяет топику и идеологию жанра и является тем уровнем, анализ которого представляется наиболее плодотворным для того, чтобы понять природу одического комплимента. Другой аспект в подходе к оде как жанру, принадлежащему официальной придворной культуре, — ее реальное бытование в рамках этой формы идеологического самоутверждения монархии. Гуковский писал: «Торжественная ода, похвальная речь («слово») <…> были наиболее заметными видами официального литературного творчества; они жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества». «Поэзия, художественная литература вообще в это время не существовала сама по себе; она фигурировала как элемент синтетического действа, составленного живописцем, церемониймейстером, портным, мебельщиком, актером, придворным, танцмейстером, пиротехником, архитектором, академиком и поэтом — в целом образующего спектакль императорского двора». Цель этого действа заключалась в «показе мощи, величия, неземного характера земной власти» [Гуковский 1936, 13—14]. Отметим, что Гуковский говорит здесь о принципиальной соотнесенности поэзии и придворного церемониала. На базе этой характеристики официальной поэзии, данной Гуковским, и фактов, приведенных П. Н. Берковым [Берков 1936, 24], в исследовательской литературе сложилась концепция непосредственной вовлеченности официальной поэзии, в том числе и оды, в придворный быт. Так, со ссылкой на процитированную работу Гуковского, Пумпянский писал, что контакты с немецкими академическими поэтами дали Ломоносову «навыки, относящиеся к придворно-официальной стороне оды и опиравшиеся на представление об оде как части внелитературного целого <…>. Техника поднесения оды, прочтение, учет театрального церемониала, частью которого она предназначена быть, приспособление размеров оды, плана, стиля, слов к этой первичной ее функции, — все это знали Юнкер и Штелин (только это они и знали!) и теперь должен узнать Ломоносов» [Пумпянский 1983, 19]. Именно в этой своей функции — занимать «строго очерченное место в торжественном ритуале гражданского праздника» — ода, по мнению В. М. Живова, может быть рассмотрена в одном ряду с панегириками различной жанровой ориентации. «Сколь бы новым ни был жанр оды или панегирической песни, он выполнял ту же функциональную роль, которую играли приветственные канты и силлабические панегирики, составлявшиеся презираемыми ныне стихотворцами «Спасского моста» и имевшие более чем полувековую традицию, восходящую к Симеону Полоцкому и новоиерусалимским поэтам <…>. Немецкая церемониальная наука лишь поддерживала и кодифицировала здесь сложившиеся в России традиции, и русская ода оказывалась в этом церемониале таким же эквивалентом панегирических виршей, как и ода немецкая» [Живов 1996, 245–246]. Однако реальных фактов, прямо указывающих на практику исполнения в составе церемониального действа именно оды, в нашем распоряжении нет или они носят косвенный характер. Такое положение само по себе не может, конечно, служить аргументом того, что оды не исполнялись перед монархом, но требует более пристального внимания, во-первых, ко всем указаниям на примеры такого рода; во-вторых, к тому, как сам текст оды описывает отношения одописца и монарха и в какой степени такие отношения предполагают личное поднесение или исполнение10. Именно отталкиваясь от представления о функциональной близости оды и придворной поэзии XVII в., строит свое исследование «От русского панегирика XVII века к оде М. В. Ломоносова» и Л. И. Сазонова. «Связь между панегирическими жанрами и ломоносовской одой, — пишет она, — покоится на более широких основаниях, чем общность отдельных тем и стилистических признаков. Их близость обусловлена многими общими конструктивными принципами, имеющими опору в государственной идеологии, условиях и самих основах творчества писателей-панегиристов и одописцев <…>. В XVIII веке в творчестве В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова и других поэтов панегирическая функция перешла к похвальной, торжественной, комплиментарной оде» [Сазонова 1987, 103–104]. Среди особенностей топики оды, сближающих последнюю с панегириком предшествующей эпохи и восходящих к ним, исследовательница выделяет: общую политическую ориентацию обоих жанров, обращение к монарху как олицетворению государства и использование библейских и античных реминисценций при его описании, тему географической протяженности России, образ орла, солнца, золотого века и др. Однако если ода и панегирик XVII в. могут быть сближены на основании функциональной синонимии, которая возникает как следствие того, что обе группы текстов принадлежат одной идеологической системе (системе абсолютизма), то появляется возможность более широкой и, в то же время, более конкретной постановки проблемы. Во-первых, возникает вопрос о том, почему в середине 1730-х гг. ода начинает вытеснять традиционные для русской панегирической культуры жанры и к 1740 г. уже безраздельно доминирует. Во-вторых, внешняя, идеологическая и функциональная, посылка для сопоставления дает возможность сравнивать не только внутритекстовые переклички11, а как раз те элементы панегирика и оды, которые отражают формы бытования двух жанров. Именно в этом аспекте нас будет интересовать тот контекст «синонимичных» похвальной оде жанров, таких, как похвальные стихи, песни, надписи. § 4. Одический восторг и проблема субъектной Топика оды многосоставна и разнообразна. На современном этапе ее изучения и во всей своей сложности она не может быть описана в одной работе. Мы будем ориентироваться на тот круг тем и идей, которые связаны именно с одой и составляют ее специфику. В 1734 г. Тредиаковский в «Рассуждении об оде вообще» в качестве центральной характеристики указывает именно на одический восторг — описание того специфического состояния, которое переживает автор, создавая свое произведение. Одический восторг, его природа и происхождение в отношении к оде, хорошо изучен. Г. А. Гуковский, характеризуя его, писал: «Эмоциональная основа всей системы Ломоносова осмысляется им как тема каждого его произведения в целом; это — лирический подъем, восторг, являющийся единственной темой его поэзии <…>; его воображение парит, пролетает мигом пространство, время, нарушает логические связи, подобно молнии освещает сразу разнообразные места». «Ода распадается на ряд лирических отрывков, связанных чаще всего вставными строфами, в которых введена тема самого поэта, носителя лирического волнения» [Гуковский 1927, 17—18]. Исследователь, таким образом, видит в восторге композиционную (определенную как мысленный «одический полет») и стилистическую (стремление «демонстративно разрушить связь с практическим языком» [Гуковский 1927, 15]) основу оды. И. 3. Серман, опираясь на исследования Гуковского, рассмотрел употребление личных местоимений в оде как форму, в которой воплощена позиция восторженного поэта. «Среди “действующих”, условно говоря, персонажей ломоносовских од (царей, цариц, фигур христианской и античной мифологии), — указывает он, — определенное место занимает и сам поэт. <…> Мармонтель даже высказался в том смысле, что ода — жанр драматический». При этом, однако, о поэте мы можем из оды узнать очень немного, — она ориентирована на «выражение общих мыслей и чувств». «Ничего не меняет, — пишет Серман, — и появление “я” поэта, оно лишь означает точку зрения, определяемую общим отношением Ломоносова к теме данной оды». Рассматривая колебания между «я» и «мы» в русской оде, исследователь приходит к выводу, что «чередования “мы” и “я” почти не поддается какой-либо классификации, какому-либо смысловому определению. Элемент случайности явно преобладает над закономерностью» [Серман, 35, 36, 39]. Таким образом, Серман, предложив связать восторг оды и способы номинации субъекта повествования в оде, пришел к выводу об отсутствии закономерностей в этой сфере. В настоящей работе мы попытаемся определить тот контекст, в котором выбор формы повествования в оде («я» и «мы») будет элементом значимым, и сосредоточимся на эволюции, которую пережила тема одического повествователя в 1730–1762 гг. § 5. Русская ода 1730-1762 годов: Сюжеты и темы оды не могут определяться автором только в соответствии с его личными вкусами и позицией. Они определяются формами бытования оды. Особенностью бытования оды является негласное требование к автору очертить «модальные границы» своей оды. Эти границы зафиксированы в заглавии каждого произведения данного жанра. Именно этот исходный уровень информации, необходимой для того, чтобы текст был опознан как похвальная ода определенного типа, заключен в заглавии. И оно же определяет рамки, в которых автор обладает свободой выбора тематики. Факторами, в большой степени определяющими топику оды и традиционно манифестируемыми в заглавии, являются указания на автора, на повод и на то лицо, к которому ода обращена. Мы уже указывали, что предметом исследования будет ода, обращенная к монарху. При этом речь идет о похвале, обращенной к монарху именно в этой его ипостаси, а не к частному лицу. Уже беглое знакомство с материалом дает, например, возможность говорить о том, что топика оды варьируется в зависимости от пола монарха (хотя всего несколько од, написанных в 1741 и 1762 гг. будут обращены к монарху-мужчине) и его возраста (и здесь на общем фоне выделяются две оды Ломоносова, обращенные к Иоанну Антоновичу). Значительно важнее для круга тем, выбираемых одой, окажется тип власти того или иного монарха и, следовательно, зависимость оды от всей суммы официальных документов, трактующих вопрос о происхождении и природе власти каждого из монархов, занимавших престол в 1730–1762 гг. Ода всегда пишется по тому или иному случаю, к тому или другому официальному торжеству. Не только в разные царствования, но и на протяжении одного царствования список таких случаев может меняться, в их состав могут вводиться однократные торжества (например, торжества по случаю военной победы, бракосочетания кого-либо из членов императорской семьи или рождения наследника, прибытия монарха в одну из столиц, отъезда и др.). Каждый повод (например, Новый год или коронация) будет требовать обращения к совершенно определенным темам и сюжетам. Список торжеств не просто определяет «уместные» поводы для написания оды. Их последовательность, их ритмическая смена определяет цикл политических переживаний подданных (в том числе и автора оды). Для формирования топики важным здесь окажется, например, то, что коронация Анны Иоанновны приходится на апрель, а Екатерины II — на сентябрь; что распределение основных «годовых» торжеств при Екатерине относительно равномерно в течение года, и это создает возможность соотнести их со сменой времен года; при Анне же все основные праздники приходятся на зимние месяцы, в связи с этим весенняя коронация, выпадая из этого зимнего цикла торжеств, отчасти теряет свой блеск, а все зимние праздники сближаются в своей топике. Право на обращение с одой к монарху имеют не все его подданные (это касается и подданных других монархов). В разные эпохи этим правом могло обладать частное лицо, отличенное монархом, всякое или определенное должностное лицо, представитель всякой или определенной корпорации. Этот фактор имеет прямое отношение к количеству одической продукции в ту или иную эпоху (хотя не только это определяет интенсивность деятельности поэтов-одописцев). Очевидно, что приведенные факторы будут, в первую очередь, коррелировать с ритмом смены одного царствования другим, поэтому ода эпохи Анны Иоанновны будет отличаться по своей семантической структуре от елизаветинской и екатерининской. В разные эпохи для каждой группы факторов появляются наиболее актуальные или просто единственно возможные решения. В настоящей работе в центре внимания окажется последний из выделенных факторов — позиция одописца в его отношении к монархине. Однако, как мы увидим, описание этой позиции будет связано с необходимостью обращаться к «коммуникативным» характеристикам оды в целом. § 6. Политическая эмоция как специфическая тема русской оды и ее особенности Ода — жанр лирический. Предмет лирики — не событие, а эмоция, переживание того или иного события. Однако торжественная ода обращена к эмоции особого типа — эмоции политической. В отличие от эмоции, например, любовной, политическое переживание имеет по крайней мере две важные особенности. Во-первых, даже если ода написана строго от первого лица и формально отсылает к переживаниям повествователя, очевидно, что личное, индивидуальное переживание не обладает какой-либо политической реальностью в контексте универсальной и фундаментальной для эпохи идеи «гласа народа» как «гласа Божия». Так, например, Анна Иоанновна незадолго до 25 февраля 1730 года — дня, когда ею были уничтожены «кондиции» и Верховный тайный совет уже был близок к поражению, на предложение верховников провозгласить ее самодержавной правительницей, отвечала: «Это для меня слишком мало получить самодержавие от осьми персон» [Сборник РИО. Т. 5, 367, № 27]. Точно так же, как мы увидим, русская ода не могла передавать чувств «персоны» (одной или многих), но должна была выражать чувства народа и быть «гласом народа», даже если это был «глас» единого праведника, который оправдает многих. Во-вторых, эмоция, которую фиксирует ода (коллективная, как мы уже говорили, по своему статусу), не является произвольной. Официальная идеология в очень большой степени определяет, каким должно быть переживание того или иного события, то есть речь идет о том, что официальный быт требует не только строго ритуального поведения, но и ритуального переживания, и ода это ритуальное переживание фиксирует и, в то же время, этому ритуальному переживанию «обучает». Таким образом, ода как жанр официальный и лирический, с одной стороны, парадоксально доминирует в системе политической идеологии, точно так же, как «глас народа» — необходимое условие благополучного состояния государства; с другой же стороны: ода строго ограничена рамками, которые предписывает ей официальная идеология эпохи. Две главных характеристики коллективной и ритуальной эмоции оды — ее качество (собственно, тип эмоции — радость, печаль, страх и т. д.) и «лирический герой» оды — носитель такой реакции на политическое событие (он может быть лицом, которое совпадает с автором и повествователем оды, представляет коллектив, всех подданных, христиан, «человеков» вообще). Другими словами, похвальная ода (и мы полагаем, что именно так можно понять специфику оды как панегирика) есть литературная форма, которая фиксирует, как то или иное политическое событие должно было быть пережито подданными российского монарха. Предлагаемая вниманию читателей работа была задумана и отчасти написана под руководством профессора Ю. М. Лотмана. Но и в той части диссертации, которая была закончена уже без него, влияние его идей, научных трудов, опыта работы под его руководством слишком велико, чтобы его можно было отразить в отсылках к тем или иным статьям или книгам Профессора. Светлой памяти Юрия Михайловича Лотмана автор посвящает эту книгу. 1 Здесь и далее в квадратных скобках имя автора и год издания отсылают к списку источников или к списку цитированной литературы; порядковый номер — к списку учтенных панегириков; после запятой указан номер страницы. 2 Под похвальной или торжественной одой мы будем подразумевать стихотворение, обращенное к царствующему монарху или лицу, принадлежащему к императорской фамилии, которое автор озаглавил словом «ода» (полагаем, что определение жанра здесь является и определением круга тем и допустимых границ их варьирования). В этом случае на первый план будут поставлены не стилистические, тематические или иные критерии, а сознательная установка автора составить стихотворение определенного жанра («ода» в заглавии). Посвящение оды царствующему монарху выделяет торжественную оду из более широкого класса од (философских, духовных и др.). 3 В дальнейшем эта концепция легла в основу работ И. З. Сермана [Серман], Г. В. Москвичевой [Москвичева 1971– 1974; 1986], А. А. Смирнова [Смирнов 1981], В. P. Cooper [Cooper] и послужила моделью для составления целого ряда учебников по истории русской литературы XVIII в.; близкой по смыслу, но заменяющей в качестве центрального термина классицизм на барокко, является концепция А. А. Морозова [Морозов 1965; 1974 и др.]. Против такого «нормативного» подхода к русской литературе XVIII в. выступал П. Н. Берков [Берков 1964]. 4 В качестве образца такого рода подхода, несмотря на совершенно иной характер материала и во многом отличающиеся задачи исследования, автор настоящей работы видит для себя труды М. Л. Гаспарова «Строение эпиникия» [Гаспаров 1979] и «Топика и композиция гимнов Горация» [Гаспаров 1989]. Так, в статье, посвященной изучению топики и композиции гимнов Горация, М. Л. Гаспаров выделяет гимны среди других од Горация «по наличию общего признака — обращения к богу или к богам в начале или (реже) в ином месте стихотворения». Эта особенность гимна связана с его обрядовым происхождением и определяет специфику построения такого рода стихотворений [Гаспаров 1989, 93 и след.]. 5 Нужно, разумеется, иметь здесь в виду полемическую заостренность этих и других высказываний Пумпянского о самодовлеющем развитии одической топики. Н. И. Николаев во вступительной статье к публикации работы Пумпянского «К истории русского классицизма» приводит маргиналии исследователя к статье Ю. Н. Тынянова «Ода как ораторский жанр». Маргиналии эти демонстрируют неприятие Пумпянским «теории самодовлеющего исторического развития литературы». Так, против слов Тынянова «Между тем, упускается здесь из виду, что эволюция тем была фактором не самостоятельным, а подчиненным», стояло по-немецки: «Господин сам выставляет себя на смех!» [Николаев 1983, 296]. «Менялась вся установка <В отношении оды это была установка на “витийство”, “ораторское действие”. — Е. П.>, — писал Тынянов, — это вело к определенному тематическому строю» [Тынянов, 229–230; 250]. Этому мнению Пумпянский противопоставлял идею самодовлеющего развития темы. 6 «Несообразности» в решении именно восточной темы были, в свою очередь, общим местом критики «малербианской» оды. Исследователь творчества Малерба указывает в этом ряду, например, «атаку на поэтический жаргон» в «Мыслях» Паскаля; «Парнасскую реформу» Жильбера Гуре (1669), который высмеивал «посылку короля в Мемфис и Вавилон в поэтический крестовый поход против турок»; язвительную критику Буало по адресу тех, кто «завоевывает Мемфис и Византию в стихах или вырубает ливанские кедры, чтобы соблюсти рифму» [Winegarten, 118–119]. 7 Авторы комментария к «Полному собранию сочинений» Ломоносова, которые в целом склонны искать политические реалии даже в самых далеких от политики словах оды (так, в знаменитом зачине оды 1739 года «Восторг внезапный ум пленил» они предлагают видеть «реальные условия боя»), полагают, что Геон и Тигр символизируют Турцию, Восток — восточный ветер — постоянную угрозу Европе со стороны Турции и т. д. [Ломоносов VIII, 876; 883]. 8 Это касается и случаев, когда комментаторы пытаются исправить так называемые «темные места» ломоносовской оды. Так, например, А. А. Морозов, комментируя стих Ломоносова «Озрися на страну десную» (из оды, написанной на Новый 1754 год; за этими словами следует описание аллегорической фигуры Китая), пишет: «Употребление по отношению к Китаю слова “десная” в прямом (т. е. расположенный справа), а тем более в переносном (т. е. истинный, правильный) значении маловероятно <.…>. Вероятнее всего, в оригинале было “страна денная”, т. е. страна восточная» [Морозов 1986, 508]. Однако если учесть, что пространство ломоносовской оды — некоторое условное «пространство смыслов» [подробнее об этом: Погосян 1992], которое во многом ориентировано на географическую карту, а предшествовавшая пространственная позиция повествователя зафиксирована у Ломоносова словами «На полночь кажет Урания», то слово «десная» получит в оде свой прямой смысл: для повествователя, обращенного к северу, восток оказывается справа. 9 По-видимому, автоматизм использования одических «блоков» даже в самых беспомощных образцах жанра сильно преувеличивался уже критиками оды начала XIX в. Ощущение галиматьи возникало, в первую очередь, как результат чтения оды по законам литературы иной эпохи и совершенно иной поэтики. 10 Интересные наблюдения, касающиеся «функционирования оды» в форме «чтения про себя», а также полемика с Ю. Н. Тыняновым по вопросу о «способе бытования» этого жанра даны в работе С. И. Панова и А. М. Ранчина «Торжественная ода и похвальное слово Ломоносова: общее и особенное в поэтике» [Панов, Ранчин, 176–177]. 11 К такому подходу, однако, с ограничением контекста рамками одного царствования, автор настоящего исследования обращался в статье «Сад как политический символ у Ломоносова» [Погосян 1992].
* Елена Погосян. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997. С. 7–22. © Елена Погосян, 1997. |