 |
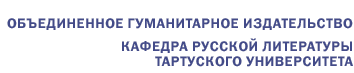 |
|
<ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ СТРОФ «ПАМЯТНИКА»>* Д. П. ЯКУБОВИЧ
Печатается по черновому автографу (из б. собрания Л. Н. Майкова), хранящемуся в Пушкинском Доме Академии Наук СССР. Писано чернилами на листе сине-серой бумаги с водяным знаком <18>34, размером 220 х 344 мм. На оборотной стороне листа — черновик перевода из Ювенала («Пошли мне долгу жизнь и многие года») с жандармской красной нумерацией (цифра «50») посредине. Впервые публикуемый черновой текст трех последних строф стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» приводится нами в сводке последнего чернового текста с последовательным приведением под строкой зачеркнутых Пушкиным вариантов. Приводим для сравнения здесь же аналогичную сводку перебеленного с поправками автографа всего стихотворения, хранящегося в Библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (тетр. 2384, л. 57 об.):
Сравнительно с этим окончательным текстом «Памятника»25 публикуемые черновые варианты последних его трех строф (ст. 9–20) представляют исключительный интерес. Пушкинское стихотворение, осмысляющее весь собственный путь, все творческое дело поэта, по своему жанру восходит к длинной вековой традиции. Смысл «Памятника» Пушкина в целом может быть уяснен до конца только раскрытием пушкинского отношения к сюжету, лучшие осуществления которого великими мастерами-предшественниками на разных исторических этапах Пушкин прекрасно знал. Только на этом фоне может быть понято великое своеобразие, приданное Пушкиным древней теме, новая ступень, на которую он эту тему поднял, сделав ее близкой и нашей эпохе26. С первых же строф своего «Памятника» Пушкин, внешне соблюдая канон горациевой оды во всех ее частях, формулах, самой видимости нарочито архаического языка и стиля, разрушал ее привычное содержание. Он придавал новый поворот традиционной формуле крепости памятника, измеряя ее понятием незарастающей народной тропы. Подытоживая дело своей жизни, Пушкин подчеркивает в противовес традиционному пресмыкательству перед Фелицами, что его глава была «непокорной». В последний раз в своей жизни Пушкин встречается с Державиным. Возражая Горацию, он возражает и Державину. И рядом с этой поэтической полемикой Пушкин противопоставляет свою «нерукотворную» славу памятнику материальной славы, созданному в честь того, кого он называл «врагом труда, нечаянно пригретым славой». Противопоставление, которое сам Пушкин также не мог и мечтать видеть в печати, как и сожженную главу своего «романа в стихах». Александровская колонна незадолго до пушкинских стихов была воздвигнута (1832 г.) и открыта (1834 г.) вблизи от места, где позже находилась последняя квартира поэта. Колонна была прославлена как символ самодержавия в ряде брошюр и стихов «шинельных» стихотворцев27. Пушкин, уклонившийся от присутствия на торжестве открытия колонны28, в своих стихах безбоязненно заявил, что его слава выше
Заменяя этот стих «Наполеоновым столпом», Жуковский совершенно правильно учел его вызывающую сущность и полную невозможность его напечатания. Новое, небывалое содержание было влито Пушкиным и в формулу бессмертия, в старом поэтическом каноне всегда звучавшую как узконациональная. Пушкин впервые за мировую историю сюжета поднял эту формулу до значения интернациональной, всемирной («доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит»). В этой связи замечательны и материалы, непосредственно связанные с публикуемыми черновыми строфами «Памятника». Давая в третьей строфе формулу национальной славы, Пушкин также впервые раскрыл ее ближе к нашему пониманию. В противовес Горацию, прославлявшему лишь родную Эолию, в противовес николаевской политике угнетения входящих в состав России национальностей, Пушкин выдвинул «всяк сущий в ней язык». Традиция надписей на памятниках упоминала маленькие народы обыкновенно лишь для вящего прославления их покорителей. У Пушкина впервые в высоком жанре оды названы по именам, отнюдь не как «местные краски»30, а как народы равные, рядом с «гордым внуком славян» и «фин и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык». Почти безвестные до того народы впервые оказались приобщены Пушкиным к общенациональной русской культуре, точно так же как имена ряда народов были им уже введены в литературу во всем его творчестве («Цыганы», «Калмычке», «Путешествие в Арзрум» и др.). Характерно, что первоначально именно в этом столь новом месте своей «оды» Пушкин пошел сначала по пути опрощения языка. Вместо «Руси великой» он думал сказать проще:
Узнает всяк живущий в ней язык… И конкретизируя эту мысль, рядом с «фином» и «могущим» внуком славян, Пушкин в черновике написал:
Тунгуз жестокой и калмык —
Черкес, киргизец и калмык — Четвертая строфа (формула заслуг) обрабатывалась, как обнаруживает черновик, также с особой тщательностью, так как в ней отчеканивалось самое важное — то, за что поэт будет «любезен народу». Сначала Пушкин еще следовал традиции, пробуя:
Крайне любопытно, что следующий четырехстопный стих Пушкин начал было так:
Если догадка наша справедлива, то замечательно, что Пушкин остановился на полуслове. Не найдя в этот момент удовлетворяющей его формулы, он, как будто вспоминая свою «Вольность», однако решительно не хотел повторять ни юношеской формулы своей «Деревни» о «свободе просвещенной», ни вспоминать более поздней своей «Записки о народном воспитании». В перебеленной с поправками рукописи стих: «Что звуки новые для песен я обрел» еще присутствует, но заменяется так:
Желая и опасаясь одновременно характеризовать свое право на славу упоминанием Радищева, свободы и милосердия, Пушкин все-таки и в перебеленном автографе выразился достаточно определенно:
И милосердие воспел. Последний стих, однако, не удовлетворил своею расплывчатостью и был еще конкретизирован:
Вместо дикой еще «жестокости» тунгуза, жестоким был назван самый век. Подобной терминологии традиция также не знала. Гуманно-прогрессивное значение своей деятельности, перекликающееся с вольнолюбием своей юности, — этим был дорог Пушкин самому себе. Это самооценка, завещанная им за полгода до смерти векам. Наиболее сложным в смысле борьбы с традиционной формой было преодоление финала оды — обращение заключительной строфы к музе. Но и в этом месте Пушкин намерен был внести в канон «Памятника» небывалое содержание. Первоначально он призывал музу быть послушной «святому жребию», а затем в связи со своим пониманием роли поэта — «призванью своему». Эта формула осталась первоначально и в перебеленном авгографе только в последней стадии, уступив место окончательному варианту («веленью божию»), более согласному с самим образом античной музы. Наконец, в черновом автографе Пушкин собирался дать красноречиво-мужественные строки, аналогичных которым также не знает ни один из великих предшественников Пушкина в этом жанре:
Хвалу и брань глупца приемли равнодушно. Духовное одиночество поэта среди бранящей его толпы глупцов и готовность к новому изгнанью, к новым обидам и клеветам — таков потрясающий финал этой первой непосредственной записи. На этом фоне дал Пушкин свою собственную подытоживающую самооценку, говоря сквозь путы своего века с грядущим веком, когда он станет любезен народу. 1 Слухъ [обо м<н 2 Узнаетъ всякъ живущiй въ ней языкъ —
4 Черкесъ [и] киргизецъ и Калмыкъ — 5 а. И темъ б. Буду долго
7 во следъ 8 возп<
10 Стих начат: Хвалу и 11 Изгнанья не страшась, не требуя в
14 Описка: Exigi 15 безсмертной 16 Меня 17 пройдетъ обо мн 18 сынъ 19 ею 20 Что звуки новыя для п 21 Что вследъ Радищеву 22 И милосердiе возп 23 Призванью своему, 24 Хвалы 25 Заглавие дано при первой публикации (в посмертном издании «Сочинений Пушкина», т. IX, 1841 г., стр. 121–122) В. А. Жуковским, внесшим также ряд совершенно исказивших смысл стихотворения собственных поправок ради цензуры (ст. 4: «Наполеонова», ст. 13: «народу я любезен», ст. 15: «Что прелестью живой стихов я был полезен», ст. 18: «не страшись, не требуй и», ст. 20: «не оспаривай»). Н. В. Гоголь писал Жуковскому: «в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты…». Впервые стихотворение начало печататься правильно лишь с 1881 г. («Русский Архив», т. I, стр. 235, и издание Литературного фонда). В искаженном Жуковским виде центральная по значению 4-я строфа попала и на памятник Пушкину, поставленный в Москве. Только в 1937 г. решением Всесоюзного Пушкинского комитета восстановлены на этом памятнике подлинные стихи Пушкина (см. ЦО «Правда», 8 I 1937 г.). 26 Этому вопросу посвящена нами особая, подготовленная к печати работа. 27 Еще в год ее поднятия Ф. Глинка напечатал («Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду», 1832, стр. 327) стихотворение «К гранитному столпу, воздвигаемому во славу Александра I», где между прочим писал: «не рушат тверди сей ни зуб времен, ни грозы, двинь море — и она останется цела». Пушкин следил за литературой этого рода. В его библиотеке имелась, напр., иностранная «Ода на колоссальную колонну, воздвигнутую в честь императора Александра I в С.-Петербурге 30 августа 1834 г.» (см. «Литературное Наследство», № 16–18, 1934 г., стр. 1017). 28 Ср. запись в его «Дневнике» от 28 ноября 1834 г.: «Я был в отсутствии — выехал из П. Б. за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами…» и т. д., и смежную запись о румянцевской колонне: «Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще не разберет». 29 Своеобразной формой («александрийского») Пушкин словно бы отводил читателя к памятникам Египта (Александрии), но, конечно, имел в виду не их, а превышающую их высотой Александровскую колонну. 30 Как это имело место когда-то в романтических «Братьях Разбойниках». 31 У Пушкина не переставлены конечные слова «обрел я», но вряд ли можно сомневаться, что он имел в виду это сделать для сочетания «я обрел». 32 Кажется, первоначально Пушкин думал сказать: «Во след Радищеву воспел и я свободу». 33 Этот брошенный вариант, вероятно, должен был заканчиваться в таком роде: «я в сильных пробуждал» или «в людях», «в сердце», но тотчас же был заменен Пушкиным через «лирой пробуждал». 34 Помимо конкретных упоминаний в своем творчестве о «милости» в «Стансах» и «Друзьям» с возможными применениями к заступничеству о декабристах, Пушкин имеет, конечно, в виду здесь и общий гуманный характер своего творчества. * Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Вып. 3. С. 3–8. Дата публикации на Ruthenia 22.04.2005. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 [дойдетъ] по всей Руси великой
[дойдетъ] по всей Руси великой