 |
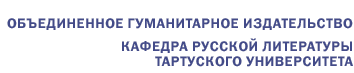 |
|
Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. С. 256–269.
ПРОБЛЕМА КОММЕНТИРОВАНИЯ ЭПИСТОЛЯРИЯ ЛЮБОВЬ КИСЕЛЕВА, ТАТЬЯНА СТЕПАНИЩЕВА Если рассматривать комментарий как постраничные или построчные пояснения слов (имен, реалий), которые могут вызвать затруднения у читателей, то исследователь переписки будет встречать лишь традиционные трудности, стоящие перед комментатором любого текста: нехватка информации и эрудиции, необходимость обращения к многочисленным печатным и архивным источникам, чтобы с точностью восстановить историю текста, интертекстуальные связи, фактический контекст описываемых событий и пр. Если же понимать под комментарием целостную интерпретацию текста как явления культуры, то дело будет обстоять иначе. Исследователь переписки сталкивается, в первую очередь, с непроясненностью самой природы эпистолярия. Мы часто говорим о жанре переписки, тем самым подразумевая близость и/или почти тождественность переписки и художественной литературы. Недаром письма не только писателей, но и талантливых авторов, отличавшихся живостью слога и имевших влияние на культурный процесс, нередко издавались в серии «Литературных памятников». Однако это не избавляет от необходимости каждый раз, принимаясь за издание переписки, ставить вопрос о природе данного конкретного текста. Во всей полноте этот вопрос встает перед нами, когда мы обращаемся к переписке Жуковского и его племянниц. Дело не только в его писательском статусе и в литературной одаренности его корреспонденток. Известная установка Жуковского, что «жизнь и поэзия одно», ставит вопрос о границе между бытовым документом, литературным письмом и литературой особенно остро. 256 | 257 Главным содержанием интересующей нас переписки является роман Жуковского с Машей Протасовой — излияние чувств, объяснения, борьба за счастье, надежды и их крушение, отказ от брака, брак возлюбленной с другим и их непростые взаимоотношения, построение Жуковским утопии «жизни втроем», смерть возлюбленной. Поэтому важно понять, имеем ли мы дело с биографическим эпизодом, развивавшимся по законам жизни и ставшим фактом русской литературы потому, что он произошел с великим поэтом, либо мы имеем биографический эпизод, развивавшийся по законам литературы и ориентированный — сознательно или подсознательно — «авторами», в первую очередь Жуковским, на литературные образцы1. Наиболее часто и не без основания в качестве аналогий для романа Жуковского и М. А. Протасовой предлагались «Остров Борнгольм» Карамзина, «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо, несмотря на существенное отличие (там речь идет отнюдь не о платонических отношениях влюбленных). Тем не менее, Блудов, посвященный в историю их отношений, прямо писал: 1 Авторы не ставят себе целью осмысление этой проблемы в общем виде; рассмотрение «случая Жуковского» должно, скорее, указать на необходимость такого осмысления. Нам представляется продуктивным подход к проблеме, представленный в недавней работе А. Л. Зорина «Понятие “литературного переживания” и конструкция психологического протонарратива» [Зорин]. Заглавное понятие, выдвинутое Зориным, на наш взгляд, может стать важным оперантом в описании историко-культурных сюжетов на границе «жизни» и «литературы» (Ср.: «…идея литературного поведения должна быть поддержана концепцией литературного переживания, в рамках которого те или иные жизненные события воспринимаются историческим персонажем на базе впечатлений, ранее почерпнутых им художественных произведениях. Литературный текст, интерпретированный в контексте идеализированных представлений персонажа о себе, выступает здесь в качестве своего рода эмоциональной матрицы, задающей нормы переживания. Через такое переживание эти матрицы реализуются в соответствующих поведенческих реакциях: словах, жестах, поступках» [Зорин: 13–14]). 257 | 258 «Что сказать новому Saint-Preux о его Юлии?» (1818) (цит. по: [Веселовский: 183]). Как нам представляется, Жуковский был далек от мысли разыгрывать в своей жизни литературные сюжеты. Аналогий с романом Руссо он решительно избегал. Дистанцирование от «Новой Элоизы» было осознанным, вплоть до того, что, как нам уже случалось говорить, поэт оградил свою ученицу и возлюбленную от чтения этого романа (Мария Андреевна прочла его уже замужней дамой), а сам твердил о том, что «Юлия» нестерпимо скучна и что он не смог прочесть текст до конца [Русский архив: 381] (что не соответствовало реальности). Очевидно, что Жуковский стремился избежать развития жизненного сюжета по схеме Руссо. Неожиданного союзника он нашел в лице матери Марии Андреевны, Е. А. Протасовой, которая, по свидетельству Зейдлица, с ранней юности знала роман «Новая Элоиза» почти наизусть [Зейдлиц: 13]. Конечно, она прочитывала отношения Жуковского и Маши с помощью этого литературного кода. Чем, вероятно, и объясняется ее постоянная слежка за ними, которая так оскорбляла поэта (о чем он многократно сообщает в письмах к той же Маше). Не менее отчетливым было желание Жуковского доказать себе и окружающим, что его любовь к сводной племяннице «законна» и, соответственно (по умолчанию), аналогии с повестью Карамзина «Остров Борнгольм» неуместны. В письме к Марии Андреевне, отказываясь от надежд на брак с ней, Жуковский пишет: «Поняла ли ты то, что заставило меня решительно от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного. Нет! Я никогда не переменю на этот счет своего мнения» [Русская старина: 668]. И в самом деле, у нас нет ни одного свидетельства обратного: поэт был убежден как в том, что «Бог благословил бы нашу жизнь», так и в том, что «законы» не осудили бы этого брака. Отсюда постоянный мотив переписки — стремление доказать, что перед законом он и Маша не являются родственниками. Однако отказ от идентификации биографических сюжетов с отдельными текстами еще не означает отказа от литературности в принципе. Жуковскому было свойственно говорить 258 | 259 о своей любовной истории, особенно ретроспективно, в литературных терминах: «роман моей жизни кончен, начну его историю»; «вы, милая, одно из самых славных лиц в драме моей жизни <…> теперь и пьесы уже нет, есть одна афиша» (цит. по: [Зейдлиц: 126]). Особенно частотно употребление слова «поэзия»: «Видел Машу, говорил с нею о ней и доволен: это поэзия» (1820 г.) [Там же]. После смерти М. А. Мойер Жуковский пишет А. П. Елагиной: «Поэзия жизни была она! <…> она же будет снова поэзией жизни, но поэзией другого рода» [Там же: 134]. Понятно, что слово «поэзия» употребляется здесь метафорически и все-таки одновременно отождествляется с творчеством и даже с самим поэтом. Комментатору необходимо, как представляется, выделять такие нестандартные случаи словоупотребления. У Жуковского их вообще немало. Так, под его пером концептуализируются термины родства. Как правило, поэт именовал свою сводную сестру Екатерину Афанасьевну «тетушкой» или «маменькой». Отчасти это был след «путаницы» семейных связей, возникшей в детстве (он называл М. Г. Бунину бабушкой, как это делали его племянницы — родные внучки Буниной). Желая видеть в Е. А. Протасовой и ее дочерях свою «семью» (еще до матримониальных планов), поэт присвоил себе статус младшего ее члена, уравнивая себя со своими ученицами. Поэтому ему так трудно давалось именование «сестра» по отношению к Екатерине Афанасьевне, он даже признавался, что оно его страшило (вполне объяснимо). Только отказавшись от идеи брака с Машей, он решается сказать о Екатерине Афанасьевне: «имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца» и «я видел подле себя сестру» — однако продолжение фразы характерно: «и сделался другом» [Русская старина: 668]. В этом же письме к Маше он говорит о себе «брат вашей матери», но тут же присваивает себе звание «отца» («Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца»). Однако Машу он никогда не именует дочерью, более того — в дальнейшей переписке он передает ей наименование «сестра», себя именуя братом: «Мои тетради береги, — наставляет он М. А. — В них ничего 259 | 260 не переменять, кроме разве одного — везде: сестра. Помни же своего брата, своего истинного друга» [Русская старина: 672] (Маша подхватывает это словоупотребление, в минуты напряженных объяснений с Жуковским после своего замужества называя себя сестрой, а его — братом). Таким образом, слова брат, сестра, друг, семья наполняются символическим смыслом и обозначают духовную, а не кровную/родственную связь, что вполне корреспондирует и с литературной традицией эпохи. Усвоение этой литературной традиции приходится у Жуковского на «тургеневский период» (общение с братьями Тургеневыми, прежде всего с Андреем, участие в Дружеском литературном обществе). Именно здесь происходит формирование идеала, который Жуковский сохранит на всю жизнь, — идеала «своего круга», круга родных по духу. Сама возможность творчества ставится в зависимость от окружения и обстановки: Жуковский постоянно пишет о необходимости уединенной жизни для занятий — и самообразованием, и литературой; позднее, в Белеве и Муратове ищет тот узкий круг, в котором возможно свободное творчество; а находясь в Петербурге, постоянно жалуется на рассеяние и «душевную сухость», мешающие правильной жизни и поэзии. Такое представление о творчестве, конечно, восходит к сентиментализму, но не это сейчас для нас существенно. Важнее то, что характеристики «узкого круга» сформировались у Жуковского быстро и повторялись с незначительными вариациями. И понятия дружба и любовь в этом контексте оказывались близки до невозможности различения. Статус дружбы, риторика и формы реализации «дружбы энтузиастов», очевидно, определялись Андреем Тургеневым, лидером круга. Именно в его письмах к Жуковскому постоянно встречается эмфатическое обращение брат:
В письмах с коллективным адресатом (таких было немало) — постоянные, почти навязчивые обращения: любезнейшие друзья, дражайшие друзья, братья. Товарищи Андрея Тургенева описывают свои отношения в тех же категориях; ср. в дневнике его брата Александра:
Или в письме Андрея Кайсарова Андрею Тургеневу:
Друзей соединяли также общие литературные увлечения и пристрастия. Так, шиллеровская ода «К радости» стала почти гимном дружеского кружка, из которого заимствовались подходящие цитаты. (Об этом будет еще сказано ниже). После распада Дружеского литературного общества Жуковский оказывается вне «своего круга» — совершенно необходимого ему для творчества. В письмах середины 1800-х гг. к Александру Тургеневу он постоянно говорит о необходимости воскресить дружбу и заново образовать «свой круг»:
Вновь в этой переписке появляется Шиллер с одой «К радости» (8 января 1806):
Eines Freundes Freund zu sein, Wer ein holdes Weib errungen… (Приведенные стихи семью годами ранее цитировал в сходном контексте Андрей Тургенев в письме к Жуковскому). В семье Протасовых Жуковский ищет тот идеальный «свой круг», к которому он стремился еще с юности. И хотя он уже не «дружеский», а «семейный», поэт описывает его в тех же образах и выражениях, которые были усвоены в тургеневском кружке2. Ср. в письме Ал. Тургеневу (август 1809):
2 Надо отметить, что для самого героя дальнейший путь в это время определен еще нечетко: Жуковский не знает, будет ли он журналистом или писателем, или пойдет по педагогической стезе. Но в любом случае образование «близкого круга» стоит для него на первом месте, до определения карьеры (ср. в автобиографии: план «Будущая жизнь» начинается с жизни «семейной», «авторская» и «общественная» — после нее). 262 | 263 И в дневнике:
(1814) План счастия. Первое, чтобы мы имели доверенность. Наша цель. <…> Обр<аз> жизни сем<ейной>. Жизнь для других. Не иметь никакой постор<онней> цел<и>. <…> Наша цель быть столько счастлив<ыми> вместе, сколько возможно. След<овательно> люб<ить>. <…>. Помогать друг другу быть лучшими [Там же: 63]. Сама специфика чувств «энтузиаста по рассудку» (каким хотел быть Жуковский) такова, что допускает замену, преображение, смешение — возвышенная, чистая любовь и идеальная дружба пользуются одним и тем же набором риторических формул для своего выражения (ср. из письма Жуковского к Марии Андреевне: «мои записи сохрани, только везде — сестра» — адресант преобразует любовь в дружбу заменой лишь одного слова). В смысле неразличения у Жуковского «риторики любви» и «риторики дружбы» показательны два эпизода. Первый — с перефразированием Шиллера в альбоме Саши Протасовой. К записи на смерть кузины, М. Офросимовой: «Тысячи случайностей разлучают людей любящих друг друга в этой жизни; затем наступает разлука смерти, разрушающая все наши планы…» [Соловьев: I, 14; ориг. по-франц.] — Жуковский прибавляет “Est-ce que la mort est une separation?” и заканчивает неточной цитатой из Шиллера:
Ein guter Vater wohnen. (В оде «К радости»: “Brüder — überm Sternenzelt / Muss ein lieber Vater wohnen”). Так Жуковский, усвоивший фразеологию 263 | 264 немецких энтузиастов в русском преломлении (и сам создававший), переносит ее на свои отношения с младшими племянницами — что влияет и на сами эти отношения. Второй эпизод относится к марту 1814 г., когда Ал. Тургенев прислал Жуковскому в письме два стиха на итальянском, а поэт ответил на них стихотворением:
На что такое, друг, желанье? На что нам поверять судьбе Священное воспоминанье? Когда б любовь к тебе моя Моим лишь счастьем измерялась И им лишь в сердце оживлялась, — Сколь беден был бы ею я! Нет, нет, мой брат, мой друг-хранитель; Воспоминанием иным Плачу тебе; я вечно с ним; Оно мой верный утешитель! Во дни печали ты со мной; И, ободряемый тобой, Еще я жизнь не презираю; О, что бы ни было, — я знаю, Где мне прибежище обресть, Куда любовь свою принесть, И где любовь не изменится, И где нежнейшее хранится Участие в душе моей… [ПСС: I, 318] Не будь в этом тексте слова «брат», оно читалось бы как любовное стихотворение и никак иначе. Жуковский допустил эту двойственность преднамеренно. В письме от 30 марта он писал Тургеневу:
То есть, так же, как дружба и любовь, для поэта нераздельны друг и возлюбленная, им могут быть адресованы одни и те же слова. Сложность понимания риторической позиции Жуковского особенно очевидна при обращении к его стихотворным и эпистолярным посланиям к другой племяннице — А. А. Протасовой-Воейковой. Они наполнены таким чувством и заключены в такие формулы, что это давало основание некоторым исследователям считать и младшую из Протасовых объектом любви Жуковского. Ср. у Соловьева:
К ней обращено гораздо больше стихотворений, чем к старшей сестре, и эта адресация — прямая, открытая (тогда как Маше Жуковский адресовал прямо шуточные, «домашние» стихи, другие — только скрыто). Ср., например, в стихотворении «В альбом А. А. В.<оейковой>» («Ты свет увидела во дни моей весны…», 1821):
Покинь меня! Желать — безжалостно ты учишь, Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты; В могиле мертвеца ты чувством жизни мучишь! [ПСС: II, 228] Обращения к Саше в письмах гораздо эмоциональнее и свободнее:
Протасова-Воейкова была постоянным товарищем Жуковского в литературных играх (см., например, адресованный ей выпуск журнала «Муратовская вошь» с описанием праздника, посвященного дню рождения Саши, 1810 года). Облик Саши в поэзии Жуковского сложнее и многостороннее, чем облик ее сестры: она и «Светлана», и «Сандрок», и “Allegro”, а Мария Андреевна почти никогда не имела поэтического имени (только «Нина», и то недолго). В художественном мире Жуковского она — скорее «фигура умолчания», Александра присутствует более явно. Рискнем предположить, что причина этого — в представлениях поэта о границах поэзии: «живая» жизненная драма не может быть допущена в нее, потому что лишена необходимой гармонии. Отношения же с Сашей — именно та идеальная дружба, в которую Жуковский хотел превратить и любовь к М. А. Протасовой (особенно после отказа от брака). Превращение не удалось, возможно, отчасти и потому, что отношения с возлюбленной были сознательно заключены Жуковским в рамки исключительно «высокой поэзии». Возвращаясь к вопросу о том, насколько участники интересующей нас переписки ориентировались на литературные образцы, признаемся, что решить его непросто. Тезис о пронизанности быта людей карамзинского круга литературой не требует доказательств. Жуковского такая атмосфера окружала с ранней юности и в Дружеском литературном обществе, и в доме Карамзина, где он жил или почти ежедневно бывал в момент создания «Сельского кладбища», и затем, в конце 1800-х гг., в период издания «Вестника Европы». Напомним, что Карамзин был мастером не только литературных, но и «жизненных» сентиментальных, платонических романов, героем которых бывал он сам и его друзья 3 Ср. у М. А. Протасовой-Мойер в письме к Жуковскому от 27 августа 1819 г.: «<…> так бывает нужно пописаться к тебе, что я пишу и деру письма» [Уткинский сборник: 229]. Он ей таких слов не писал никогда. 266 | 267 Плещеевы. А в период бурного развития романа с Машей Жуковский как раз познакомился и близко сошелся с семейством Плещеевых, которые оказались втянуты в сложные перипетии этих отношений (все участники событий часто бывали в их доме, там же случился скандал с «Пловцом», именно Плещеевы рассказали Маше о сватовстве поэта и отказе Е. А. Протасовой, у них жил Жуковский после возвращения из армии). Так что у Жуковского имелся и литературный, и жизненный «романный» опыт, в том числе и собственный (влюбленность в одну из сестер Соковниных, содействие Андрею Тургеневу в переписке с другой из сестер и пр.). Для Жуковского его «роман жизни» (его слова) стал реализацией литературной утопии, созданием в жизни таких отношений, которые соответствовали бы высоким идеалам, провозглашенным или изображенным в литературе, точнее — в его собственной поэзии. И в этом плане роман Жуковского и М. А. Протасовой — это вполне осознанное выстраивание таких высоких отношений, что отражает и стилистика их переписки. Письма к Маше выдержаны в высокой — лирической, часто драматической или же наставительной интонации, шутки в них не допускаются. Как признавалась Маша в письме к Авдотье Елагиной, Жуковский и ей запретил «над собою смеяться» [Уткинский сборник: 181]. Письма к Протасовой-Воейковой, как мы пытались показать, интонационно гораздо разнообразнее. Конечно, следует учитывать, что сохранилась далеко не вся переписка Жуковского и Маши, что известная нам ее часть приходится как раз на наиболее драматический период их отношений. Поэтому естественно, что ее лейтмотивом становится отказ от счастья в привычном понимании этого слова и создание нового счастья: «Чего я желал? — пишет Жуковский — Быть счастливым с тобою! Из этого теперь должно выкинуть только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив тобою! Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного, и от того она живее и лучше» [Русская старина: 667]. Создание возвышенных отношений, когда любовь настолько лишится «земных» коннотаций, что возлюбленный 267 | 268 превратится в отца и брата и что после замужества Маши можно будет строить планы «жизни втроем», вполне соответствовало поэтическому идеалу Жуковского4. У комментатора его поэзии возникает большое искушение прямолинейно-биографического толкования текстов, особенно когда дело касается его несчастной любви. Но дело не в приуроченности того или иного текста к жизненному эпизоду и не в их сюжетном сходстве5, а в их духовном соответствии друг другу. Эпизоды жизни Жуковского и его «идеальная» поэзия — своего рода сообщающиеся сосуды. Как ни сопротивляется «жизненный материал», поэт стремится реализовать в жизни то, что сказал в стихах. Поэтому литературным кодом его переписки с М. А. Протасовой-Мойер и с ее конфиденткой А. П. Елагиной становится «Теон и Эсхин», с характерной перефразировкой финала — не «Все в жизни к великому средство», а «Все в жизни к прекрасному средство». Подводя предварительные итоги, мы можем отметить, что комментирование переписки Жуковского требует от исследователя не только (и не столько) знания биографической канвы, реалий и т. п., сколько связывания эпистолярия со всем контекстом выстраиваемого поэтом мировосприятия и с его представлениями о природе литературы. Письма Жуковского не входят в сферу его художественного творчества, но в своем содержании и прагматике оказываются прямо им обусловлены. 4 Ср. интерпретацию этой темы Веселовским: «В такой среде любовь принимает особый оттенок: она жалостливая, печалующаяся, сумрачная, не знающая смеха <…> Такая любовь соседит с идеей смерти, любви за гробом, где встретятся стремившиеся друг к другу души, в чувстве которых здоровый реальный порыв терялся в новом обобщении, в том, что назвали впоследствии amitié amoureuse. Это нечто колеблющееся на разделе страсти и приязни, не удовлетворяя ни одной, ни другой…» [Веселовский: 41]. Здесь, однако, можно заметить, что М. А. Протасовой это «искусственное» чувство было, по-видимому, несвойственно. 5 Так, часто делались проекции балладных сюжетов на биографические. 268 | 269 ЛИТЕРАТУРА Веселовский: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999. Зейдлиц: Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. СПб., 1883. Зорин: Зорин А. Л. Понятие «литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива // История и повествование: Сб. ст. / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. М., 2006. С. 12–27. Лотман: Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени / Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1958. Вып. 63. Письма Жуковского к Тургеневу: Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу // М., 1895. Письма Тургенева к Жуковскому: Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В. Э. Вацуро и М. Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура. Л., 1987. ПСС: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 2000–… Русская старина: Русская старина. 1883. Март. Русский архив: Русский архив. 1867. № 5/6. Соловьев: Соловьев Н. В. История одной жизни: А. А. Воейкова — «Светлана». Пг., 1916. Т. I–II. Уткинский сборник: Уткинский сборник. Т. 1: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.
Дата публикации на Ruthenia — 08/01/08 |